Больше рецензий
26 апреля 2020 г. 08:26
837
5 Кредо историка
РецензияЛюблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья...М.Ю. Лермонтов, "Родина", 1841
Как я уже обмолвился, одной из последних купленных перед карантином книг был свежий сборник работ о политике памяти в Восточной Европе под редакцией Алексея Миллера. Не знаю почему, но я редко сразу читаю купленные книги, особенно когда чего-то от них жду. Требуется какая-то раскачка, определенный настрой. Довольно часто в процесс подготовки входит и попытка освежить восприятие того или иного автора.
Вот и в этот раз я взял с полки уже довольно старый (2008) томик Миллера «Империя Романовых и национализм». Возможно, мне просто захотелось перечитать, ибо я помнил, что книга когда-то поразила меня ясностью и четкостью подхода. Она была одной из первых прочитанных в серии Historia Rossica, и фальстартом не стала, если судить по числу серийных изданий, переместившихся из различных магазинов на мои полки. Началось все в 2011 году, когда в том еще Крыму я в Ялте купил журнал «Український тиждень», в котором была рецензия на книгу Даниэля Бовуа. И хотя это совсем другая история, в известной мере Миллер как раз о хитросплетении национальных вопросов в наших краях и пишет.
Перечитанная книга представляет собой сборник статей. Автор просит верить ему, утверждая, что традиционный посыл «все статьи тщательно переработаны для данного издания» - чистая правда. Так или иначе, но швы не выпирают, разве что две финальные статьи (о работе Особого политического отдела МИД РИ и о наличии/отсутствии преемственности национальной политики РИ и СССР) несколько хуже укладываются в канву, правда последняя дана в качестве заключения.
Но все это не так важно, ибо перед нами методологическая книга, в известной мере – кредо автора. Он рассказывает нам – как правильно смотреть на историю Российской империи. Правильно не в плане верности ракурса, выгоды какой-либо стороны исторического конфликта, оценки последствий действий сторон на наше настоящее и возможное будущее, а с точки зрения непредвзятого интереса к истине. Дело это откровенно сложное, но это единственный подход, который может позволить понять, что действительно происходило, остальные так или иначе затушевывают события в угоду одной из многочисленных сторон процесса.
В какой-то мере, если верить общему фону книг, которые я читаю, такой подход декларируется историками несколько последних десятилетий. Они пытаются, создавая рассказ о прошлом, увидеть свои собственные настройки и понять – насколько они сказываются на том полотне, что выходит у них. Осознать личные предубеждения – дело сложное, еще сложнее увидеть их непосредственные результаты со стороны, но сама постановка задачи уже делает исторической науке честь. Очевидно, что еще сложнее сделать это применительно к регионам, которые продолжают оспариваться различными национальными проектами.
Миллер пишет, что рассматривать взаимодействие империй и национализмов (имперских наций и подчиненных наций) стоит только во взаимосвязи. Нет региональному подходу, ибо выделение регионов всегда основано на какой-то абстракции (границы сейчас, границы тогда, реки, горы и прочее), да здравствует ситуативный подход, в котором рассмотрение вопроса должно быть проведено при привлечении всех заметных акторов, которых всегда больше двух, ибо и местные националистические элиты, и имперский центр не едины, чиновничество проводит разную политику на центральном и региональном уровне, элиты делятся на умеренные и радикальные, а с распространением образования в дело включаются массы, делая картину еще более сложной. Ментальные карты, т.е. наше представление о географии, о национальных территориях и историческом прошлом важны, но не как неосознаваемая методология исследования, а как объект такого исследования, если хотите, деконструкции.
Собственно, посыл состоит в том, чтобы избежать крайностей национальной историографии, когда взаимодействие с центром подается как борьба за выживание против единой слепой и враждебной силы, а также и крайностей имперской историографии, когда взаимодействие с окраинами представляется в формате окультуривания. Автор считает похвалой высказанное ему на конференции во Львове замечание, что из его книги об украинском вопросе в РИ нельзя понять – на чьей же он стороне?
Здесь, пожалуй, уместно сказать, что автор если и не одинок в своем крестовом походе, то все же когорта его последователей малочисленна. Судя по недавним интервью, приуроченным к выходу вышеупомянутого сборника, он сам с грустью говорит, что мечта о нахождении консенсуса в рассмотрении общего прошлого Восточной Европы не сбылась. А ведь в этой книге он с легким оптимизмом писал, что обеим сторонам предстоит пройти свою часть пути – бывшим окраинам империи признать, что царские власти не имели долгосрочной программы обрусения всех народов империи, что действия были ситуативными и разнонаправленными, тогда как российской стороне предстоит понять, что ангелами с крылышками имперские власти не были, запреты на национальные языки и концепция триединой русской нации так или иначе являются репрессивными практиками.
Автор пунктиром намечает сюжеты, в которых наиболее выпукло отражается противоречивость и непоследовательность царской политики. Здесь и перевод литовского языка на кириллицу для разрыва культурной общности с поляками (которым не доверяли из-за восстаний), и метания по вопросам алфавитов для белорусского и украинского языка (до формальных запретов вполне легально в империи выходили книги на этих языках латинским алфавитом), и вопросы борьбы с мусульманским прозелитизмом в Волжско-Камском регионе. Отдельная статья посвящена истории взаимодействия царской власти с евреями, доставшимися Российской империи после разделов Речи Посполитой. От либерализма Екатерины II к запретительным мерам, от попыток либерализации при Александре II к маргинализации и погромам позже, толкнувшим столь заметную часть еврейской молодежи в революционное движение.
Собственно, именно здесь Миллер ссылается на Суламит Волков и Альфреда Рибера, говоря о том, что Россия – это «общество осадочных пород», в котором домодерные институты и социальные практики сосуществуют с современными, что приводит к «антимодернизму», т.е. к насильственной реакции на новое и к этническим конфликтам. Сам Миллер расширяет метафору, говоря, что современная Россия существует среди руин как имперского проекта Романовых, так и нескольких стадий советского эксперимента, от коренизации 20-х через прагматическую адаптацию 30-х к новой исторической общности – советскому народу (и наличие этих ментальных руин важно для ландшафта и других бывших советских республик).
Таким образом, нет отдельных национальных историй, нельзя связно рассказать об истории русского народа, не рассказав при этом о других народах РИ, верно и обратное. Тем более что, в рамках конструктивистского подхода, само существование всех этих народов в том наборе, что мы знаем сейчас, вовсе не было предрешено еще сто пятьдесят лет назад.
P.S. Миллер много и часто ссылается на книги, которые тогда были еще не переведены. Надо похвалить «НЛО» и «РОСПЭН» за то, что подавляющее число упомянутых книг теперь доступны и по-русски.
P.P.S. Миллер придает заметный вес в развитии национальных движений Восточной Европы тем усилиям, что предпринимали немцы и австрийцы при работе с военнопленными из Российской империи, мол, именно разведение по национальным баракам и последующая акцентированная пропаганда повлияла во многом на послевоенные государства и движения. Так и чуешь, что это корректное изложение знаменитой максимы про то, что «Украина – проект австро-венгерского Генштаба», позволю себе здесь легкую иронию.

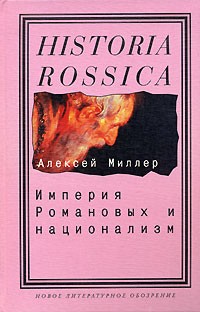
Комментарии
Вот это я называю качественной апологетикой.
Раскусил, чертяка. А ты с чем-то не согласен (грозно насупив брови)?
Думается, если б я был не согласен, я бы выбрал другие слова. )
Ладно, ладно, карандашиком пока запишу.
Фух, отлегло, а то я уж зубную щетку упаковал.
Концепция триединой русской нации (если оставить за скобками политическую составляющую, а рассматривать только научный аспект), наверное, является последствием того, что нет в науке консенсуса о том, когда диалект перестаёт быть диалектом и в полной мере становится языком, тем самым создавая лингвистическую базу для нации.