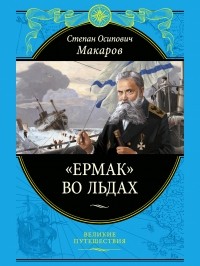Больше рецензий
16 мая 2020 г. 11:00
125
3 «Друзья и недруги, отбросьте прочь мечи! При имени Макарова молчи…» (Такубоку Исикава)
РецензияУдивительно, как можно проецировать адмирала Макарова в качестве создателя и разработчика едва ли не первого российского ледокола, когда в той же книге мельком упоминается, что первым создателем российского ледокола был купец Бритнев. Бритнев, устав бороться с логистическими трудностями во время замерзания балтийских портов (слава «великому» Петру I ), сконструировал и построил небольшой ледокол, способный перевозить грузы. На это открытие Битнева толкнула нужда. Ведь к осени начинают поспевать хлебные грузы, предназначенные для вывоза, а в это время мороз сковывает воды Финского залива и заграждает путь. На 5 зимних месяцев многие конторы переносятся в открытые балтийские порты или закрываются. Расход приходится нести за все 12 месяцев, а выручать лишь в 7. Приходится наугад предрешать вопрос о том, послать или не послать пароход в Петербург, и в случае если не удалось предугадать время начала или конца навигации, нести значительные убытки. Не зевали и вездесущие иностранцы, которые послали в Кронштадт инженеров, чтобы посмотреть, как Бритнев ломает там лед. Они купили чертежи Бритнева за 300 р., и, сообразно с этими чертежами, был построен для Гамбурга первый ледокол, предназначенный ломать лед посредством своего корпуса. Макаров лишь дорабатывал чужие проекты ледоколов. Причем иногда ход его мысли поражает. Как, например, может быть ледоколом судно, у которого на носу был расположен винт? А ведь это считалось в то время последним словом науки. Очевидно специальной науки для России, служащей лишь одной цели – замедлению научного и промышленного прогресса. «Ледокол для Байкала сделан согласно последнему слову науки: у него в корме два винта, а в носу один винт.» Наука тогда много чего предлагала и печально, что адмирал Макаров подспудно служил своеобразным проталкивателем этих идей. Чего стоил проект по пробиванию льда при помощи опресненной воды. «Он заметил, что пресная вода, образовавшаяся от таяния льда, уйдя под лед, вследствие прикосновения к соленой воде, имеющей температуру –1,5 °C, вновь намерзает и увеличивает толщину льда снизу в то время, когда наверху происходит обильное таяние его. Предполагалось, что обогретый теплой водой борт будет менее способен прилипать к смоченному снегу. Кстати сказать, броненосцы тех лет оснащали «намордниками» на носу, которые выглядели как таран, но таковыми не являлись. Они лишь увеличивали площадь корабля. «…первый намордник, имевший вид круглого щита, был укреплен на таран броненосца «Князь Пожарский». Намордник этот не имел эластичности и служил лишь для того, чтобы удар наносился не острием тарана, а некоторой площадью».
Впрочем, героический рейс адмирала Макарова на ледоколе «Ермак» описан очень хорошо и читать его познавательно. В принципе, ледокол «Ермак», построенный англичанами, был продан России для испытаний. И действительно, зачем англичанам самим нести ненужные расходы и рисковать жизнями своих граждан, если для этого есть русские? Отсюда и весьма, как замечает сам адмирал, не торжественный выход из порта. «Менее торжественного выхода трудно себе представить; между тем потом, когда мы вернулись в Англию с поврежденной подводной частью, в числе прочих упреков, которые на меня посыпались, был и упрек в торжественности выхода из Кронштадта.» Россия пыталась как-то изучить материалы, из которых англичане изготовили ледокол. Но не было никаких технических возможностей производить сталь с примесью 3% никеля. А это значит, что ремонт ледокола могли делать только англичане. Все это было нелепо, как и анализ происхождения слова «медведь» применительно к белым медведям. «Оригинально, что название «медведь» происходит от слов «мёд» и «ведать», а между тем можно поручиться, что ни один белый медведь никогда не отведал вкуса меда.» Адмирал и его экипаж, которые не имели опыта подобных плаваний на таких кораблях, лишь «к 16 станции» смогли разобраться с оборудованием. «Когда читаешь описание других путешествий, то получается такое впечатление, что все приборы действуют прекрасно. Если это так, то они искуснее нас, потому что мы только к 16 станции направились как следует. Может быть, впрочем, и у них не все идет удачно, но об этом не пишут, и очень жаль, ибо, готовясь к ученым изысканиям, важно знать разные недостатки, и можно значительно уменьшить шансы неуспеха.» Но иностранные исследователи писали всякие фантазии в своих работах, а российские старались писать правду, которая ценилась больше фантазий Нансена. А ведь им за эту правду не платили в достаточной мере. В северных широтах проблематично было судам получить страховые платежи. «Дело в том, что он застрахован, и в таком обществе, в котором путешествия в разные страны предусмотрены, и даже имеется такса о величине надбавки на случай поездки туда или сюда. Ледовитый океан не упомянут в этой таксе, а потому общество заявило, что в случае путешествия А. Н. Крылова в Ледовитый океан оно не только не возьмет на себя ответственности ни за какую прибавку, но и будет считать себя вправе по возвращении А. Н. Крылова из плавания переосвидетельствовать его и затем принять страхование на прежних условиях или на иных, по своему усмотрению.» А ведь от страховых платежей зависит и товарооборот морских перевозок. «Правительство несет большие жертвы, но путь на Обь и Енисей от этого не улучшается, страховые премии по-прежнему очень высоки, и не дальше как сегодня я узнал что товары, идущие из Англии в Тюмень, принимаются на страхование лишь с уплатой 4 % их стоимости, а пароход страхуется не ниже как в 15 %. При таких условиях дешевого товара, как лес и хлеб, из Сибири в больших размерах вывозить немыслимо: хлеб с реки Оби вывозится лишь как обратный груз, а лес с Енисея совсем не вывозится.»
Был у адмирала и конфликт с Менделеевым, чьи сотрудники участвовали в экспедиции и которых Менделеев хотел наделить независимым статусом от капитана. В принципе, складывается такое ощущение, что экспедицию заранее обрекали на неуспех. «Первоначально я предполагал, что приедут специалисты, чтобы помочь мне преодолеть некоторые технические трудности, и лишь по отъезде комиссии из Петербурга меня известили, что председателем избран К. А. Бирилев.
Таким образом оказалось, что комиссия состоит не из специалистов и что председателем избран адмирал младший меня в чине, который высказывался против постройки ледокола на совещании в Министерстве финансов. Когда комиссия прибыла, то я увидел, что в ней старшим членом состоит г. Конкевич, который писал в газете против ледокола и открыто противодействовал мне все два года, что идет это дело. Надо думать, что г. Конкевич друг К. А. Бирилева, который этим летом в газетах одобрительно отзывался о г. Конкевиче. В качестве корабельного инженера избрали бывшего строителя броненосцев «Адмирал Сенявин» и «Ушаков» инженера Скворцова, который, вероятно, не забыл еще, что при пробе мною переборок этих судов они дали большую течь. Механиком пригласили Якобсона, бывшего старшего механика на броненосце «Минин», под командой К. А. Бирилева. Делопроизводитель – сын К. А. Бирилева.» А комиссию назначили именно из-за откровенности Макарова, из-за его нежелания скрывать проблемы. «Моя откровенность в моих ошибках продиктовала мне по приходе в Ньюкасл послать телеграмму, что получили пробоину. Наказание за откровенность тотчас же последовало, ибо на второй день получил телеграмму самого Витте: «Пожалуйста, оставайтесь в Ньюкасле до прибытия комиссии». Мне бы послать телеграмму: «“Ермак” отлично разбивает лед, подробности везу лично». Это было бы подло, но умно. Потому что моей телеграммой я дал моим врагам случай организовать комиссию, и теперь еще вопрос, как я с нею рассчитаюсь. Комиссия со мной не совещалась, и ее постановлений я не знаю, но, вероятно, они очень не лестны для меня и «Ермака». Вывод комиссии можно было предсказать заранее. « Из краткого обзора мнений членов Комиссии по ледоколу «Ермак», составленного А. А. Бирилевым 4 октября 1899 г.
Каждый раз, как ледокол «Ермак» встречался или будет встречаться с полярными льдами, получались и будут получаться более или менее серьезные и тождественные аварии, что происходит как от конструктивных недостатков ледокола, так и от недостаточно тщательного производства кораблестроительных работ на этом судне. …Носовая машина совершенно бесполезна. …Ледокол «Ермак» как судно, назначенное для борьбы с полярными льдами, непригоден по общей слабости корпуса и по полной своей неприспособленности к этому роду деятельности.» Тут бы и пожалеть адмирала, посочувствовать ему, так сказать. Но ведь и он, будучи такой же шестеренкой в государстве Россия, проталкивал кем то определенный материал. Он в положительных красках описывал японцев, их участие в православных церковных службах, проводимых на японском языке. «При начале проповеди, произнесенной, как и вся служба, на японском языке, все богомольцы сели на пол, по японскому обычаю. Наши православные церкви без скамеек как будто созданы для японцев, которые в своей домашней жизни обходятся без мебели и сидят на тех же циновках, по которым, вследствие присущей японцам опрятности, ходят без обуви. Многие из стариков и старушек все богослужение оставались на полу и часто на коленях горячо молились и клали земные поклоны. Во время пения „Отче наш" тоже все усердно молились, а певчие положили земной поклон, когда окончили пение, и все это так просто, так не принужденно и с такою присущею одним японцам красотою движений, что на по стороннего человека производило самое глубокое впечатление.»
Макаров даже написал явно заказную статью «Православие в Японии». Надуманную и неуместную, как гребной винт на носу ледокола. Но история шла своим чередом и вскоре началась русско-японская война. И кто знает, быть может мины, на которых подорвется адмирал, ставил какой-нибудь «православный японец», посетитель храма русской духовной миссии в Японии?