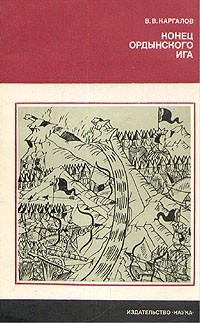Больше рецензий
10 августа 2020 г. 20:50
380
5 «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего»
РецензияТрагедия XIII века перевернула страницу нашей истории. Неспокойный феодализм – где, то ли сложились условия для централизации, то ли их и близко не было – сменился периодом Золотоордынского ига: времени трагедий, унижений и поражений. Нашествие Батыя стало той вехой, которая разделяет на «до и после». Казалось это был исторический Рубикон, когда Русь подошла к краю с которого вот вот должна упасть: канув в историю подобно другим цивилизациям и народам: «Погибоша аки обре». Однако героическое сопротивление раздробленной Руси, а так же тех народов, что жили в степях Поволжья и Дикого Поля, низовьях Днепра и гор Кавказа, не позволили исчезнуть Русской цивилизации. Измененной, потрёпанной, но готовой к реваншу вышла Русь в XV веке, обессмертив тем самым свой народ и своих правителей.
В исторической литературе принято рассматривать возвышение Москвы, как общий шаг на пути освобождения. С самых первых её самостоятельных правителей (Даниил Московский) начинает коваться меч Освобождения. Красивая концепция…, истина, впрочем, как всегда сложнее. В XIV-XV веке на Руси (вернее сказать – её Залесской части) продолжался процесс феодальной борьбы. Князья Руси Владимирской боролись, как за расширение своего влияния, так и за пресловутый ханский ярлык. В ходе этих междоусобных свар менялись лидеры, поднимались и падали княжества, использовались все средства (рабская покорность перед сильным, коварство слабого, натравливание, жалобы, подкуп) ради сиюминутных выгод (никаких наследственных гарантий). Москва стала одним из самых активных участников этой борьбы, как и прочие княжества, она не гнушалась всем тем, о чём мы сказали выше. Думали ли при этом Даниил и Юрий о том, что их миссия благородна и спасительна? Утешался ли Калита «кованием меча», когда вёл тумены на Тверь? Иные скажут, что: «Автор всё упрощает, причём делает это ради стремления очернить. Автор не видит картины в целом. Автор не понимает, что означали последствия перечисляемых им вещей». На самом деле автор всё прекрасно понимает, ничего не упрощает и ничего не очерняет. Он лишь пытается подчеркнуть, что то, что, происходило в XIV веке, историей является лишь сейчас, тогда это было политикой. Княжества решали свои задачи, укрепляли свои земли, а идеи централизации придут позднее. И это ни в коем случае нельзя считать проблемой, это не превозносит одних и не умоляет иных, это не делает Михаила Тверского героем, а Юрия Даниловича предателем. История куда сложнее простых концепций, а её главное кредо – объективность и безразличие (хотя это и невозможно).
Понимает ли это Советская историография в лице Каргалова, для которого главное направление исследования – борьба с Монгольским Игом? Вопрос сложный. С одной стороны исследователь приводит нам пример многочисленных рассказов о городских восстаниях XIII-XIV века (Тверское, общерусское против бессерменов), о борьбе с Ордой князя Дмитрия Александровича и его первой победы за сто лет до Куликова поля. Однако, Каргалов не склонен придерживаться мнения ряда историков о том, что данные восстания: «имели организационный характер»; были своего рода пробой пера перед грядущими более масштабными событиями. В центре же внимания оказывается именно Московское княжество, которое показало себя: последовательным, наиболее благоразумным, отметившимся плеядой выдающихся правителей, которое постепенно приходило к открытой борьбе, используя, как свои успехи, так и неурядицы в стане врага:
«Московский князь умело использовал замятню, очередную вспышку междоусобной войны за власть в Орде и поочередно принудил своих основных соперников к повиновению».
Почти все историки в один голос отмечают, что пик могущества Орды остался позади, когда-то гордая и мощная держава познала усладу и негу:
«Моголы, некогда ужасные своею дикостью в снежных степях Татарии, изменились характером на берегах Чёрного моря, Дона и Волги, узнав наслаждение роскоши, доставляемые им торговлею образованной Европы и Азии; уже менее любили опасности битв».
Всё это верные замечания, но они дают основание ряду исследователей идти дальше, утверждая, что
«Ордынское иго оказалось столь слабым, что было свергнуто без особых усилий…, мирное высвобождение…, рухнуло само собой».
Вот уже и звучат голоса сомневающихся в Куликовской битве (Потапов), а уж о таком событие, как Стояние на Угре, историки ломают копья с века XIX, если не раньше. Отсюда и не мудрено, что именно этим двум событиям посвящено значительное число материала данной книги.
Безусловным достоинством «Конца Ордынского ига» является её объективное изложение. Каргалов не цепляется за мнение, или идею, он представляет нам событие на основании многочисленных источников, стараясь аккуратно вводить как своё мнение, так и мнение других историков. На страницах его труда есть место для разных взглядов и споров (фактически целая глава «Была ли война с Ахмед-ханом» представляет собой историографический анализ правления Ивана III), то тут, то там мы встречаем исторический вопрос:
«Какой могла быть численность армий на Куликовом поле?... Где именно на Угре пытался переправиться хан Ахмат?»;
насыщенный разными взглядами:
«А.А. Кирпичников определяет численность войск на Куликовском поле примерно в 36 тысяч человек… Е.А. Разин определяет численность войск Дмитрия Донского в 50-60 тысяч человек…».
При этом не забываем, что Каргалов представляет нам исследование исторического вопроса, а не обзор историографии, это означает, что у него есть своё мнение, что одни факты он ставит под сомнение, с другими соглашается. Однако он нигде не позволяет себе желчных комментариев, первооткрывательства, покровительственного тона и прочих аморальных вещей, чем так любят грешить ряд современных исследователей (Потапов, Широкорад, Понасенков и прочие).
Богатая источниками и историографией книга Каргалов отличается хорошим и простым слогом, хотя и несколько усложненным летописными вставками. «Конец Ордынского ига» нельзя назвать академическим в том негативном ключе, который любят в таких ситуациях употреблять. Она подойдёт как учёному мужу (ну или не мужу), так и простому обывателю, желающему покопаться в тайнах прошлого. А причин для такого копания достаточно, хотя по мне хватит и одной сказанной как-то Ломоносовым:
«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».