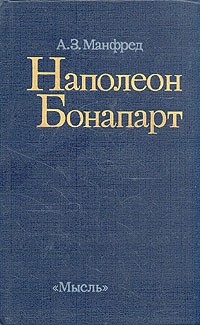Больше рецензий
28 ноября 2020 г. 18:28
1K
4.5 Наполеон Бонапарт - революционер, диктатор, герой
Рецензия«Наполеон Бонапарт» Альберта Манфреда — одна самых известных работ о Наполеоне в постсоветском пространстве. Для интересующихся судьбой императора французов, это книга, пожалуй, стоит сразу после работы Евгения Тарле в списке «читать обязательно».
Написанная спустя сорок лет после упомянутого, почти хрестоматийного «Наполеона» Тарле — а следовательно, уже в новую эпоху — книга Манфреда, исследователя истории Французской революции, предполагает принципиально другой взгляд на знаменитого корсиканца. Можно даже сказать, что «Наполеон Бонапарт» в какой-то степени противопоставляется «Наполеону». Даже исходя из названия. Кто-то уместно назвал монографию Тарле героическим эпосом. Это повесть о жизни сверхчеловека, нового Македонского, Цезаря, Августа — как угодно. Для Тарле Наполеон — это бог войны, некий мрачный гений (см. фильм "Кутузов" 1943). Причем не знаешь, какое из двух слов важнее, «мрачный» или же «гений»? Но в любом случае недосягаемый в своем величии для «простых смертных». Наполеон в концепции историка 30-х годов — эдакое холодное изваяние, которому едва ли не с пеленок было предначертано стать всесильным диктатором.
Книга же Манфреда представляет собой нечто среднее между научно-популярным текстом, беллетристической биографией и эссе. Образно можно определить его работу как историко-психологический роман. Психологии своего героя автор уделяет очень много внимания, порой даже больше, чем разъяснению исторических фактов, где он зачастую ссылает на то, что «всё это уже давно изучено» и т. п. Его интересует не столько масштаб личности Наполеона, столько его духовная эволюция (или же деградация), изменение его характера, ценностей и мировоззрения.
В отличие от Тарле, Манфред настаивает на том, что в юности и даже ранней молодости — условно до 1800 года — Наполеон был ревностным сторонником идей революции, более того — идей радикальных. Он был за народ и против феодально-абсолютистского строя, и лишь позже, опьяненный властью и победами, стал на путь тирании, как во внешней, так и во внутренней политике. Здесь, впрочем, автора можно обвинить в однобокости — как ни крути, но Робеспьер, а особенно Марат, были фигурами неоднозначными, тогда как у Манфреда они безусловный «+», а их оппоненты — безусловный «-». Кроме того, когда он пишет, к примеру, о «скатившейся в контрреволюцию жиронде» следовало бы объяснить, о чем речь. У Манфреда были более ранние исследования, посвященные событиям революции, потому, скорее всего, он не хотел повторяться, но ведь «Наполеон Бонапарт» — не продолжение «Великой французской революции» или «Марата». Это самостоятельное произведение, и зачем упоминать о каких-то «непонятных» жирондистах, если это в данном контексте это весьма отдаленно относящиеся к делу события? Таких мест, к слову, в книге много: ученый как будто предполагает, что читатель знаком со всеми предыдущими работами как о Наполеоне, так и о Французской революции. Потому нередко изложение фактов у Манфреда подменяется целыми страницами разглагольствований. К примеру, говоря перефразированными словами Наполеона о «пишите коротко и неясно», о Египетском походе Манфред пишет «пространно и неясно». То есть, в целом всё понятно, но по существу сказано мало, зато раз десять повторяется, что для генерала Бонапарта это был крупный провал. Примерно тоже самое можно встретить и в главе об Итальянском походе (читайте об Аркольском мосте у других, а я лучше пущусь в навязчивые рассуждения о важности поддержки народа) и о походе в Россию 1812 года — но там всё понятно, патриотические чувства и всё такое.
Вообще главный минус книги Манфреда в том, что она неравнозначна. Условно (и вероятно, таков был замысел), её можно поделить на две части: «Бонапарт» и «Наполеон». Но часть о Бонапарте даже чисто «на глаз» занимает значительно больше места, учитывая то, что по большому счету до 1793 года безвестный корсиканский лейтенант ничего крайне интересного для истории не представлял. Да и после Тулона и до Итальянской кампании его значение не стоит преувеличивать. Автор же тратит на эти несущественные для биографии Наполеона годы десятки страниц, ударяясь в пафосные отступления об эпохе Просвещения и периоде Революции, чему можно было уделить не более нескольких абзацев — для фона.
Таким образом закономерно, что часть «Наполеон» (где-то начиная с герцога Энгиенского) получилась заметно динамичные, четче, яснее — интереснее, если говорить прямо. Здесь меньше патетики, меньше авторских рассуждений — и больше фактов. Может быть потому, что автору был неприятен этот «новый» Бонапарт — тщеславный, высокомерный, эгоистичный агрессор? Кое-где он даже сгущает краски, когда с пылом истинного романиста, начинает фантазировать о сомнениях, одолевавших тирана бессонными ночами (чем не Ричард III у Шекспира!), о его страхах и тревогах, о мрачнеющем внешнем облике, наконец. «Вторая часть» динамичная, но грустная, как бывает грустна история всякого падения — прежде всего морального! — начинавшаяся с высоких идеалов и прогрессивных идей. Важно отметить, что хотя Манфред и считает вполне справедливыми все обрушившиеся на Наполеона бедствия, он пишет о нем с состраданием, можно даже сказать — с любовью. Не как противник, торжествующий конец давнего врага своей страны (никогда не читала труды английских историков о Наполеоне — аж любопытно, как пишут они?), а как тот же Байрон — с чувством разочарованного восхищения. Как и Тарле, он деликатно обходит стороной эпизод, когда толпа осыпала проклятиями отправлявшегося на остров Эльба Наполеона, и только австрийские и русские военные служили ему охраной. Возможно, этот факт показался автору чересчур... печальным.
И всё же под конец история предоставляет биографу некую отдушину — выраженную здесь в главе «Сто дней». Несмотря на бурные восторги, с которыми историки обычно пишут о триумфальном «бескровном» возвращении Наполеона во дворец Тюильри, на этот эпизод в биографии императора французов нужно смотреть трезво. «Второе пришествие» Наполеона мало что дало. Ни с политической, ни с военной точки зрения уже ничего нельзя было вернуть: время Наполеона прошло, о чем жёстко, но метко писал Стефан Цвейг в «Жозефе Фуше». Но это был, если можно так выразиться, моральный реванш «маленького капрала». Кажется, сам Наполеон на острове Святой Елены примерно так и оценивал свою «реставрацию». Он не мог остаться в памяти французов диктатором, «убийцей революции», символом постоянной войны и агрессии, и он не мог не использовать последний шанс, даже если шанс был обречен на провал. Наполеон не мог уже вернуть себе императорскую корону, но он постарался вернуть хотя бы уважение своего народа. Для истории это значит гораздо больше.
Вторая часть монографии выглядит «тоньше» еще и потому, что о периоде пленения (Манфред не раз повторяет именно это слово, вместо стереотипного, но неточного «ссылка») Наполеона на острове Святой Елены сказано в самом конце лишь в общих чертах (даже у Тарле больше!). Впрочем, очевидно, Манфреда интересовала сугубо политическая биография великого корсиканца, а не «мышиная возня» с Хадсоном Лоу в Лонгвуде.
Ах да! Нельзя было не заметить, что Манфред всячески избегает описания битв — есть лишь краткие штрихи к Аустерлицу, Ваграму, тому же Бородино или Ватерлоо. Если у Тарле красочное повествование о Бородино, у Александра Дюма — о Маренго, у самого Наполеона — о Ватерлоо, занимает несколько страниц, то Манфред в этом случае ограничивается лишь сухими фактами: победил, проиграл, отступил, ничья (о Бородино, кстати, так толком и не ясно, чем всё-таки закончилось, разве что сказано, что никто не победил, но без каких-либо подробностей — перелистайте «Войну и мир», как бы намекает автор). С другой стороны, это не может не радовать — скучные описания сражений, с их запутанными «тактиками» и «стратегиями» я читать не люблю.
Личной жизни Наполеона Бонапарта Манфред касается вскользь и не сообщает чего-то принципиально нового на сей счет. Вообще, наверное, единственное, что оказалось для меня в этом 700-страничном томе открытием, это заговор против российского императорство Александра I, с целью посадить на трон его сестру Екатерину Павловну под именем Екатерины III. А ведь я всегда считала (где-то вычитав много лет назад), что Павел І установил в России «салический закон»! В любом случае, это интересно.
Короче говоря, эта книга, безусловно, заслуживает внимания, но если Вы уже знакомы с биографией Наполеона, не стоит ожидать от нее слишком многого. Она скорее влияет на чувства, чем дает новые познания. Кроме того, естественно, нельзя удивляться огромному количеству чисто советской терминологии — но это можно списать на эпоху, когда писалась монография.