Больше рецензий
8 апреля 2021 г. 13:41
499
5 Две тысячи лет борьбы за истину
РецензияПисать книгу по истории религии можно разными способами. Можно описать все известные события в хронологическом порядке и на этом успокоиться. Историк-позитивист так бы и поступил. Можно рассказать только о тех событиях, в которых последователи конкретной религии предстают в сугубо положительном свете, умолчав о тех, в которых они оказываются на тёмной стороне (сейчас, в эпоху свободы слова и массового доступа к информации, так сделать, скорее всего, уже не получится). Можно старательно выявить и осветить всё самое извращённое, искажённое и испорченное, и представить это как типичное (так делать можно в любую эпоху, и такой труд обязательно найдёт своих читателей, поклонников и защитников). Наконец, можно осознанно руководствоваться принципом непредвзятости — и, возможно даже, что-то из этого получится. «Исторический путь православия», впервые опубликованный в 1953 году, в этом спектре подходов стоит немного особняком. Но — обо всём по порядку.
Кто такой автор? Александр Шмеман — это известный деятель Православной Церкви в Америке (автокефальная Церковь, получившая самостоятельность от Московского патриархата в 1970 году), богослов, учёный и преподаватель. По происхождению он сын белоэмигрантов, родившийся в 1921 году в Таллине. Известен в первую очередь как специалист по литургике (то есть по православному богослужению) и автор нескольких трудов по ней. Заметно это и здесь: Шмеман увлечённо и со знанием дела рассказывает о евхаристических молитвах разных поместных Церквей и о специфике формирования византийского богослужебного обряда. Безусловно, Шмеман — это интеллектуал, но он совершенно не похож на отвлечённого теоретика, выстраивающего идеальные схемы в своём кабинете — нет, это искренне верующий человек и действующий священник, пропускающий христианство через собственную душу и наполняющий её им.
При этом, даже находясь внутри религиозной традиции, Шмеман одновременно с этим… объективен, что среди историков встречается не так уж часто. Он достаточно критичен: разумеется, он доверяет Преданию Церкви, но при рассказе о конкретных событиях (например, об обращении императора Константина) старается отделить истину от позднейших легендарных наслоений. Он не замалчивает и не обходит стороной сложные и неприятные темы — конформизм многих церковных иерархов перед государством (напоминая при этом о тех, кто остался твёрдым до конца), деградацию монашества в конкретные исторические периоды (не забывая о тех, кто стал подлинным светочем веры и благочестия), перегибы и искажения в почитании икон и святых. Не акцентируя на этом внимание (прямо скажем, желающих поливать Церковь грязью хватало всегда), он об этом и не молчит. Он не молчит и о кризисах после Никейского и Халкидонского соборов, когда только что утверждённые догматы снова начинали оспариваться. В конце концов, Церковь существовала и существует не в безвоздушном пространстве, а в реальном мире, в конкретных исторических условиях, и, более того — сама она состоит из реальных людей, порождённых культурой и мировоззрением своей эпохи. Возвращаясь к вопросу объективности и непредвзятости — можно сказать, что Шмеман на стороне Церкви как вселенской общины верующих христиан, а не на стороне конкретных личностей из истории этой Церкви или поместных Церквей конкретных народов и стран.
Шмеман как историк оказывается не только достаточно критичным, но и достаточно тонким для того, чтобы осознать, что в источниках (в византийских хрониках, в данном случае) скорее отображается нечто, что выходит из ряда привычных явлений и поэтому привлекает внимание хрониста, в то время как обыденное и неуникальное в хроники может и не попасть — а ведь именно это выражает общую атмосферу эпохи лучше всего.
Длинный исторический путь православного христианства автор показывает как живое развитие, в котором под воздействием внешних вызовов и внутренних проблем христианство конкретизировало своё учение, оформляя его из веры «по наитию» в стройную систему догматов. Гностицизм и маркионитство, арианство, несторианство, монофизитство, монофелитство и другие ереси стали для Церкви поводом отрефлексировать то, что раньше воспринималось как самоочевидное — в том числе, сформировать канон книг Нового Завета и сформулировать учение о Троице и богочеловечестве Иисуса Христа. Последними этапами разработки православной догматики стали обоснование иконопочитания (итог нескольких десятилетий споров и противостояния с иконоборцами) и детальная разработка учения о божественных энергиях и нетварном свете, конечной причиной для которой стала полемика между Григорием Паламой и его оппонентами, самым известным из которых стал Варлаам Калабрийский. Варлаам, кстати, после проигрыша в дискуссии перешёл в католичество и получил там сан кардинала. Вместе с тем, Шмеман безмерно далёк от того, чтобы представить историю христианства как набор схем, делающих изложение более простым и понятным, но при этом искажающих его смысл.
В основу «Исторического пути» лёг курс лекций, которые автор читал в Православном богословском институте в Париже и Свято-Владимирской духовной академии в Нью-Йорке в сороковых и начале пятидесятых годов. Книга включает в себя семь частей, которые сам Шмеман называет главами: о начале Церкви и её первых годах (эта часть завершается рассказом об апостоле Павле), об эпохе антихристианских гонений, о победе христианства и эпохе Константина, об эпохе Вселенских соборов, о византийском периоде истории Церкви, об эпохе османского владычества; седьмая глава стоит немного особняком и посвящена русскому православию. Как видно, византийскому периоду (от Константина и до падения Константинополя) здесь посвящено три главы из семи — и в них довольно много размышлений о государственной истории Византии, с которой история Церкви была тесно переплетена на протяжении более чем тысячи лет.
В литературном отношении стиль Шмемана довольно красив — некоторые словесные обороты из его труда вполне уместно смотрелись бы и в каком-нибудь художественном романе. Вместе с тем, из-за назначения книги как такового (попытка осмыслить историю Церкви на протяжении почти двух тысяч лет) и особенностей её возникновения (напомню, что в основе своей текст восходит к лекциям, которые читал автор — то есть к информации, которая подавалась слушателям устно), текст трудно назвать лаконичным. Шмеман задаёт вопросы и сам же отвечает на них, любит подводить своих читателей/слушателей к конкретному ответу или решению через цепочку последовательных (хотя не всегда очевидных) логических рассуждений, нередко цитирует книги Нового Завета, сочинения святых отцов и других авторов. Можно ли было сказать всё то же самое проще и короче? Можно. Стало ли бы от этого лучше и понятнее? Пожалуй, что нет.
Идя вслед за апостолом Лукой, Шмеман начинает рассказ об истории Церкви с Вознесения и Пятидесятницы, называя ключевым событием этого периода сошествие Святого Духа на апостолов. Как земная жизнь Иисуса дала начало Царству Небесному в душах его последователей, открыла человечеству путь для примирения с Богом, для спасения от зла и возвращения к добру, так сошествие Духа дало бывшим галилейским рыбакам и одному сборщику налогов силу и способности выполнить свою задачу, распространив весть об этом по земле.
Как известно, в первые годы существования Церкви чёткого разграничения между иудаизмом и христианством ещё не было. Можно сказать, что христианство, будучи новой религией по сути, по своему содержанию, первоначально сохраняло внешние формы старой иудейской религии — первые члены новой общины, почти все из которых были евреями по крови, соблюдали установления ветхозаветного закона Моисея, встречались и молились в иудейском Храме. В некоторой степени это отсылает нас к словам Иисуса о необходимости соблюдать всё то, чему учат книжники и фарисеи (Мф. 23:2-3). Похоже, что апостолы искренне верили, что ещё немного, и весь еврейский народ радостно примет Иисуса как обещанного Машиаха, — ведь Он сам говорил, что послан прежде всего к погибшим овцам дома Израилева. Сам факт того, что сошествие Святого Духа на апостолов произошло именно в Иерусалиме, городе, священном для всех иудеев, — отражает, по мнению Шмемана, преемственность между христианской Церковью и иудейской традицией.
Это время очень радостное и по-своему романтичное, несмотря на то, что уже тогда начинаются первые преследования — избиение апостолов в синедрионе, убийство первомученика Стефана. Отличительной чертой иерусалимской общины было подлинное единство, выражавшееся в единомыслии, в деятельной взаимной поддержке и заботе всех обо всех. Это единство привело даже к реальной общности имущества, которое часть исследователей называет первохристианским коммунизмом (по мнению потомка эмигрантов Шмемана, термин не слишком удачный). Автор, кстати, опровергает мнение об отсутствии в этой первохристианской общине какой-либо иерархии, говоря, что двенадцать апостолов, избранные лично Христом, с самого начала обладали высшим авторитетом — и именно от них тянется цепочка рукоположений епископов, пресвитеров и диаконов. Иудеохристианский период в целом Шмеман рассматривает как подготовительный, предшествующий выходу Церкви в большой мир.
Нужно сказать, что исторические условия I века н. э. были благоприятными для распространения новой религии. С одной стороны, Рим, обеспечив мир и спокойствие, построив знаменитые дороги, создал условия для обмена не только товарами, но и идеями. С другой стороны, античная цивилизация столкнулась с духовным кризисом — старые культы уже перестали удовлетворять жителей Рима и его провинций, результатом чего стала мода на восточные верования — в том числе и иудаизм. Естественным путём распространения христианства стало еврейское рассеяние, то есть диаспора евреев-эмигрантов, живших по всей Римской империи. Сеть еврейских общин давала апостолам (в том числе Павлу, о деятельности которого известно больше всего) первоначальную аудиторию, а субботние собрания этих общин в синагогах — площадку для проповеди нового учения. Шмеман даже предполагает, что сеть синагог стала «провиденциально уготованным» путём христианской проповеди. Первой болезнью роста, показавшей переход христианства от иудейской «секты» к мировой религии, стал вопрос об обращении язычников и необходимости соблюдения ими ритуальных предписаний Ветхого Завета, ведущая роль в решении которого принадлежит Павлу.
С сопротивлением новое учение сталкивалось с самого начала. Характерно, что даже непосредственной причиной для его распространения за пределами Иудеи стало первое гонение — изгнание христиан из Иерусалима. Если сначала это были идеологические споры внутри иудейства, то со временем начались преследования со стороны государства. Первое гонение со стороны официальной римской власти случилось при Нероне и было довольно спонтанным — как пишет Тацит, император попытался переложить на христиан вину за пожар Рима.
Причину гонений Шмеман видит не в жестокости римских властей как таковой, а в коренном противоречии между римской государственной религией и убеждениями христиан. Смысл в том, что официальное поклонение римским божествам и признание императора живым богом было демонстрацией лояльности, которая требовалась от всех жителей империи. Совершив требуемые ритуалы и исполнив долг перед государством, человек мог заниматься чем угодно и верить во что угодно — в том числе, искренне поклоняться Митре, Осирису или даже Яхве. Однако христиане принципиально не могли поклониться идолам — это было ясно запрещено ещё в заповедях Моисея, а Господом они называли только своего Бога (и Иисуса Христа как одну из Его ипостасей). Можно сказать, что христиане, формально бывшие подданными Римской империи, внутренне чувствовали себя гражданами Царства Небесного — и это гражданство было для них важнее, чем земное. Для Рима же это означало неподчинение государственной власти, неуважение к монарху, ростки возможного мятежа — несмотря даже на то, что христиане были согласны молиться своему Богу за императора и благополучие империи. По сути, если государственные чиновники, требуя поклонения идолам и императору, воспринимали это требование формально, то христиане подходили к вопросу поклонения максимально серьёзно и ответственно. Само латинское слово «мученик» — martyr, так же, как и его греческий аналог, — буквально означает «свидетель», то есть человек, который засвидетельствовал свою веру и свою твёрдость в этой вере собственной смертью.
Если принять это во внимание, перестаёт казаться парадоксальной та взаимосвязь, при которой многие одарённые императоры становились худшими гонителями христиан. К примеру, инициатором именно систематических преследований, как пишет Шмеман, стал любимый и уважаемый многими Траян — любимый настолько, что в Средние Века возникла легенда о посмертном прощении Траяна по молитве папы Григория Великого. Диоклетиан, имя которого встречается в большинстве житий христианских мучеников, тоже был достаточно выдающимся государственным деятелем, обновившим систему власти в империи и успешно отражавшим нападения соседей на римские границы. А вот во времена политических кризисов христианам жилось немного легче, да — потому что правителям было не до них. Правда, это имело и побочное следствие — с ростом числа христиан происходило охлаждение веры, что оборачивалось массовым отступничеством при следующем крупном гонении.
Удивительно, что две действительно значимые фигуры раннего христианства покинули православие — это яркий полемист и апологет Тертуллиан, который ушёл в монтанистский раскол, и Ориген — автор термина «Богочеловек», один из основателей научного богословия и предшественник научного метода исследования Библии, — в трудах которого, тем не менее, содержится ряд еретических воззрений по вопросам свободы и спасения (в частности, учение об апокатастасисе).
Миланским эдиктом 313 года император Константин ввёл на территории Римской империи свободу вероисповедания, тем самым даровав христианству законный статус разрешённой религии. За это Константин был канонизирован в лике равноапостольного (как и его мать, Елена) — несмотря на то, что крестился лишь перед самой смертью. Интересно, кстати, что крестил Константина епископ-арианин — Евсевий Никомедийский. По мнению Шмемана, Константин принял веру в Христа искренне, но обратился он не столько как человек, сколько как император и правитель империи. Свою победу над Максенцием он, похоже, воспринял как свидетельство собственной избранности Богом, а следовательно, и избранности государства, которым правил. То есть, можно говорить о приспособлении эллинистического теократического сознания к новой религии, сменившей древнее язычество в роли официальной религии Рима. При этом сам Константин оказался, по выражению Шмемана, «христианином вне Церкви». Отсюда и происходит проблема сращивания Церкви с государством: Константин, как глава государства, полагал, что религия тоже входит в сферу его ответственности, и поэтому позволял себе вмешиваться в церковные дела — что Церковь молчаливо приняла. Он вмешался в ситуацию вокруг донатистского раскола, а после этого — в решение проблемы арианской ереси. Так в сознание христиан надолго вошёл теократический абсолютизм, представление о власти государства и монарха как власти не просто допущенной Богом, но прямо Им санкционированной. Проблему осложняло ещё и то, что некоторые императоры по разным причинам поддерживали различные ереси, в результате чего православные подвергались преследованиям государственной власти, считающей себя христианской.
Вообще, три ключевые для понимания церковно-государственных отношений фигуры среди императоров Рима и Византии — это Константин, легализовавший христианство, Феодосий Великий, сделавший его обязательной для жителей империи религией, и Юстиниан, при котором сращивание Церкви и государства фактически завершается, и Церковь становится едва ли не придатком государственной власти.
Что характерно, в современном христианском сознании, как замечает автор, преобладают отрицательные оценки константиновского периода — потому что свобода от гонений слишком часто оборачивалась зависимостью от государства (это же, кстати, можно сказать и о других эпохах, в том числе об истории РПЦ в имперский и поздний советский периоды). Не отрицая этого, Шмеман обращает внимание на то, что именно Константин, по сути, запустил процесс христианизации мира и перерождения сознания людей. Это позволило Церкви победить язычество, которое Шмеман связывает с подчинением человека иррациональным силам, ассоциируемым с природой, с чувством страха перед этими силами и чувством зависимости от них.
Эдиктом 380 года император Феодосий Великий объявил никейское христианство официальной и единственной разрешённой на территории империи религией: так Церковь становится союзом не только поверивших, но и обязанных верить. Шмеман далёк от однозначного одобрения этого решения. Не отрицая, что сама Церковь призывала к борьбе с язычеством и отказывалась от принципа терпимости как такового, в целом Шмеман выводит издание этого эдикта из того же теократического восприятия власти, характерного для римской государственности — то есть, опять же, власть воспринимала принятие христианства, в том числе, как замену старой официальной религии на новую. Признавая, что объявление христианства обязательным могло привести к новой жизни и спасению множество людей, Шмеман одновременно с этим ясно видит, что это же заложило семена разложения, семена будущего восстания мира против Церкви. В этом с автором сложно не согласиться — навязанная религия наверняка вызовет протест, пусть даже это откликнется спустя много сотен лет. Не говоря уже о том, что сама природа христианства предполагает свободное и добровольное его принятие.
При императоре Юстиниане процесс сращивания Церкви с государством, можно сказать, завершается: христианство, вера «не от мира сего», вводящая человека в реальность Царства Небесного, всё больше воспринимается не только как «естественная» религия, но и как духовная ветвь власти византийской государственности. Прекрасная в теории идея Юстиниана о симфонии государства и Церкви на практике не работала, оборачиваясь фактическим подчинением Церкви государству. Сам Юстиниан в религиозных делах показал себя настоящим диктатором: он не только запросто арестовывал и ссылал непокорных епископов, но и выпускал вероучительные определения в форме императорских эдиктов (так был осуждён оригенизм, к примеру).
Из-за отождествления государства и Церкви в сознании людей оппозиция государству, в том числе сепаратистские устремления на окраинах империи, нередко находила идеологическое оформление и опору в антиправославных ересях. Фактически, именно политический сепаратизм стал причиной отделения от халкидонского православия сирийцев и коптов. С другой стороны, идя на компромисс с представителями других течений ради стабильности империи, власть нередко назначала на епископские кафедры (в том числе в Константинополь) еретиков. Возникновение монофелитства Шмеман напрямую выводит из попытки императора Ираклия найти компромисс для урегулирования религиозного кризиса и восстановления единства.
Кстати, о ересях. Именно на византийский период истории Церкви выпала эпоха Вселенских соборов, решения которых конкретизировали и уточняли христианское вероучение. Интересный момент — споры о божественности и человечестве Христа, о характере соединения в Нём божественного и человеческого (арианство, несторианство, монофизитство, монофелитство), которые постороннему человеку скорее всего покажутся пустым философским празднословием или, в лучшем случае, дискуссией о формулировках, Шмеман увязывает с определением христианского понимания человеческой свободы.
Очень своеобразны рассуждения Шмемана о культе Богородицы. Полемизируя с критическим мнением многих религиоведов, видевших в этом культе влияние изначального языческого поклонения богине-матери, Шмеман видит в почитании Девы Марии ещё один результат осмысления богочеловечества Иисуса, преклонение перед женщиной, через которую Бог стал человеком. Это напоминает об очень любопытной метафоре о Богородице в одной молитве — «лестница, через которую к нам спустился Бог».
Величайшей трагедией на историческом пути христианства Шмеман называет разрыв между православием и католичеством, произошедший в 1054 году. В возвышении римского и константинопольского епископов была как минимум одна общая черта — и Рим, и Константинополь в определённые периоды были столичными кафедрами империи. Но если Константинополь, кроме этого, ничем особенным не выделялся (да, несколько константинопольских епископов были признаны святыми — но это можно сказать, наверное, о любой кафедре), то с Римом предание связывало мученическую смерть первоверховных апостолов Петра и Павла. Пётр, к тому же, считается первым епископом Рима. Неудивительно, что первенство Рима признавалось всеми другими церквами, в том числе и Константинополем — но речь шла о первенстве чести, первенстве в любви и уважении, первенстве среди равных, а не о юридическом главенстве и подчинении.
Истоки притязаний римских епископов на главенство во власти заметны ещё в первых веках христианства: это события 190-192 годов, когда папа Виктор требовал от восточных Церквей принять римскую практику празднования Пасхи, это спор середины III века между папой Стефаном и христианами Африки о крещении еретиков. Важным этапом становления римского представления о первенстве стала арианская смута — папа Юлий, заняв по существу правильную позицию и поддерживая Афанасия Великого, в то же время действовал так, будто пытался диктовать волю Рима восточным епископам.
Уже в V веке папство воспринималось в Риме как особые права в масштабе всего вселенского христианства — это заметно, например, в произведениях папы Льва Великого. Особенно усилилось такое понимание после 476 года, когда Западная Римская империя была окончательно разгромлена варварами и перестала существовать. По мнению Шмемана, папство стало воспринимать себя как истинного наследника теократической власти христианских императоров Рима — и именно отсюда происходит его будущий конфликт с германскими императорами (и, получается, и претензии папства на светскую власть вообще в принципе).
Не признавая теорию о главенстве Рима, восточные Церкви, тем не менее, ни разу (до IX века) ясно не заявляли о своём несогласии с ней. Свою роль сыграло и то, что всю эпоху Вселенских соборов Восток раздирался ересями, в то время как римский Запад оставался православным — и к нему апеллировали изгнанные еретиками православные епископы, и римских легатов внимательно слушали на соборах.
Нужно понимать, что 1054 год не был громом среди ясного неба, и ситуация до 1054 года отнюдь не была безоблачной. Впервые вопрос о разногласиях в вероучении — о главенстве Пап и об исхождении Святого Духа, — был поставлен константинопольским патриархом Фотием в конце IX века. Вместе с тем, Восточные церкви и Рим иногда не поддерживали церковное общение между собой десятилетиями — как из-за бушевавших на Востоке ересей, так и из-за простой геополитики. Осколки некогда единой Римской империи всё больше замыкались в себе и в своих собственных проблемах. Византии, с трудом сдерживавшей натиск персов, арабов и славян, было не до Рима, а Рим, существовавший в окружении варварских королевств и со временем вступивший в союз с франками, перестал интересоваться делами Византии. За государственным и экономическим разобщением последовало и церковное разобщение: формально сохраняя единство, Римская и Восточные церкви становились всё более чужими друг другу.
Даже причиной начала того диалога между церквами, который привёл к их окончательному разделению, стали государственные причины — Константин Мономах, император слабеющей Византии, попытался договориться с папой Львом IX о совместной обороне Южной Италии от норманнов. Папа потребовал признать его главенство в Церкви, а патриарх Михаил Кируларий (колоритная фигура, кстати — бывший заговорщик и претендент на императорский трон, ушедший в монашество) прогибаться под Рим не стал. А дальше последовала взаимная анафема и рассылка окружных посланий с новостью об этом. Парадоксально, что формальный разрыв между Константинополем и Римом произошёл не из-за того, что в действительности разделяет две христианские конфессии — не из-за догматических различий в вероучении, а из-за разницы во внешней, обрядовой стороне религии. Иерархи всерьёз спорили о совершении литургии на пресном или квасном хлебе и о посте в субботу.
Последний гвоздь в крышку гроба нарушенного единства забил Четвёртый крестовый поход — после взятия и разграбления Константинополя греки относились к католикам не иначе, как с отчуждением и ненавистью. Все последующие попытки договориться, итогом которых стали Ферраро-Флорентийский собор 1438-1439 годов и соглашение об унии, были обусловлены исключительно неспособностью умирающей Византии держать оборону на своих восточных рубежах. Через четырнадцать лет после Флорентийской унии Константинополь пал. Реальной военной помощи греки, конечно, не получили.
Завершение эпохи Вселенских соборов совпало с сокращением территории самой Византии — восточные провинции, бывшие опорой монофизитства, теперь оказались под властью арабов. Успех исламских завоеваний, кстати, Шмеман связывает в том числе и с религиозно-политическим кризисом в Византийской империи — с сепаратизмом и расколами христологической смуты. После отмирания связей с римским христианством, отпадения восточных Церквей в несторианство и монофизитство и после исламской экспансии православие постепенно приобретает черты национальной религии греческой Византии — ограниченного мира, со всех сторон окружённого врагами.
Из-за того, что все основные догматы веры были уже выработаны, и из-за того, что православие всё больше становилось национальной религией слабеющей империи, византийское богословие постепенно становится всё более консервативным и приобретает всё более охранительный характер. Новых теологических проблем почти не возникает, и активность церковной мысли уходит в литургическое творчество. По мнению Шмемана, применительно к поздневизантийскому периоду можно говорить о двух полюсах богословия — в то время как официальное богословие ограничивалось изучением и комментированием наследия святых отцов предшествующего периода, монашеское богословие развивало опыт мистического богопознания — самой яркой фигурой этого направления стал Григорий Палама, наиболее полно выразивший учение исихастов о нетварном свете.
После окончания гонений, спустя десятки и сотни лет относительно спокойного существования, перед христианством во весь рост встаёт проблема снижения уровня верующих — горячее напряжение христиан первых веков, в любую минуту готовых принять мученическую смерть за свою веру, сменяется прохладным отношением, обрядоверием и механическим исполнением религиозных предписаний, проникновением в христианство элементов магического сознания и подлинно языческого отношения к вере (пресловутое «я тебе самую большую свечку, а ты мне большую зарплату и хорошую квартиру»). Это заметно и по развитию содержания церковных канонов — к примеру, постановления Трулльского собора 691-692 года содержат множество санкций за дисциплинарные нарушения.
Здесь всплывает вечный вопрос многих движений — выбор между небольшим количеством членов, убеждённых в истинности своего учения и готовых идти в нём до конца, или множеством аморфных последователей. В своё время с этим столкнулись и русские революционеры — можно вспомнить известный спор между большевиками и меньшевиками на II съезде РСДРП. Но если конечной целью политических и общественных движений является захват власти или расширение собственного влияния на политику, то цель христианства в земном его измерении — это преображение человека, его приближение к первоначально созданному образу, и ввод человека в Царство Небесное. Если принять во внимание эти цели, становится ясно, что вопрос принятия или непринятия множества новых последователей даже не ставился. Могло ли христианство отказать этим людям в пропуске в Царство Небесное? Нет.
Сквозная тема книги, которая раскрывается на протяжении нескольких глав — это теократическая теория, в течение долгого времени определявшая взаимоотношения Церкви и государства. Её суть, если выразить её коротко — это представление о божественном характере власти или, как минимум, её божественной санкции, характерное для государств Античности и в переработанном виде принятое христианским Римом, Византией, южнославянскими государствами и Россией. В Риме это представление выражалось в государственном культе и обожествлении императора; начиная с Константина — в восприятии императора, как избранного помазанника Божия, правящего священным царством. Именно в этом теократическом представлении о власти, в изначально недостаточном разграничении государства и Церкви, наконец, в мнении о тождественности физических границ христианской Церкви и христианского государства Шмеман видит причину бесконечных диктаторских вмешательств государства во внутрицерковные дела, причину репрессий против непокорных епископов (к примеру, Афанасия Великого и Иоанна Златоуста) и, наконец, причину жестоких войн Византии с Болгарией и Сербией, тоже претендовавшими на статус единственной православной империи. Кто знает, если бы греки объединили силы с двумя балканскими славянскими государствами, вместо того, чтобы бесконечно враждовать с ними — может быть, Константинополь и устоял бы. Нельзя сказать, что Шмеман отвергает идею теократического государства вообще в принципе. Идея о помазаннике, монархе, ответственном перед Богом за свой народ, ему довольно симпатична. Однако в реальной истории эта схема практически никогда не существовала в чистом виде, без нарушений.
Вообще, из построений Шмемана можно сделать вывод (довольно очевидный, на самом деле), что сотрудничество Церкви с государственной властью — это палка о двух концах. С одной стороны, оно позволяет открыто проповедовать веру и нести её большему количеству людей, даёт, вообще, само право на законное существование (нередко это даёт и финансовое благополучие Церкви, но сейчас я говорю не об этом). С другой — Церковь вынуждена бороться (и не всегда успешно) с диктатом государства в том числе и в вопросах вероучения, с влиянием политических обстоятельств (например, с попытками компромисса с ересями ради стабильности государства). О конформизме церковных иерархов я уже говорил. Если христианство становится официальной религией конкретного государства, то приходится говорить и о чисто формальной, из соображений политической лояльности и карьерных перспектив, принадлежности к Церкви части её членов.
Ещё одна важная тема — это христианский национализм, вернее, использование христианства в качестве основы национальной идентичности, противопоставляющей себя другим. Я уже говорил, что ереси нередко становились идейным знаменем для сепаратистов на окраинах Византии. Само же православие, первоначально ставшее идеологической основой единой империи, по мере сокращения её территории приобретало всё больше черт греческой национальной религии. После гибели Византии и падения славянских государств на Балканах именно религиозная принадлежность стала тем признаком, который разделял завоевателей и побеждённых. Приняв ислам, человек почти автоматически становился из грека, серба, итальянца — османом. Бытовой и культурный антагонизм с турками в повседневной жизни, идейный антагонизм с западным католичеством создали все необходимые условия для восприятия православия как «своей» религии, с чётко ощущаемым чувством настороженной враждебности к чужим. Греческий национализм и этнофилетизм в других поместных Церквах, по сути, привели к потере того чувства вселенского единства, которое в первые века христианства живо ощущалось верующими.
Русское православие во многом повторило путь византийского. Очень высоко оценивая киевский период, Шмеман с настороженностью относится к московскому, видя в характере власти московских князей и царей, помимо положительного византийского влияния, слишком много ордынского — грубости, жестокости и вероломства. Вообще, именно заражение русского характера татарским духом (в том числе низкопоклонством перед властью) Шмеман, вслед за Г. П. Федотовым, считает главным отрицательным последствием ордынского ига. Парадоксальным образом юрисдикционное подчинение русской Церкви константинопольскому патриарху тем самым делало её менее зависимой от княжеской власти. В свою очередь, закономерным следствием союза церковной иерархии с московской княжеской династией стало то, что православие стало ассоциироваться с Московским государством так же, как в Средиземноморье оно ассоциировалось с Византией. По мере усиления великокняжеской и царской власти она всё сильнее подчиняла себе Церковь; даже провозглашение независимости русской Церкви от Константинополя Шмеман воспринимает, в том числе, как очередной этап подчинения её государству. Теократическое восприятие власти Церковь перенесла и на абсолютизм Петра I и последующих императоров, который теократическим по сути своей уже не являлся. Отмечая и сохранение остатков язычества в народном сознании, и обрядоверие (по сути, опять же подмену христианского отношения к религии языческим), и упорный, не всегда обоснованный консерватизм русского православия, Шмеман в то же время говорит о духовном свете монастырей и великих подвижников русского монашества, именно к ним относя известное понятие Святой Руси.
Страница в истории русской Церкви, которую невозможно обойти молчанием — это старообрядческий раскол, возникновение которого автор выводит из нескольких причин. В упрощённом понимании принято считать, что старообрядчество появилось из-за непринятия частью верующих исправления богослужебных книг и обрядов, проведённого при Никоне. На самом деле всё намного сложнее. Книги и правда нужно было исправлять, потому что за века копирования рукописей в них накопилось множество ошибок. В этом не сомневалось большинство мыслящих священников, в том числе те, кто потом ушёл в раскол. А вот здесь начинается исторический контекст. После Флорентийской унии 1439 года и падения Константинополя в 1453 году Россия осталась единственным крупным независимым православным государством. В понимании людей того времени это означало в том числе и то, что московское православие — это самая истинная версия христианства. На это накладывался и традиционный консерватизм русского православия вообще, когда истины держались не только и, может быть, не столько потому, что она является истиной, а потому, что её держались предки. В этих условиях копившиеся веками ошибки уже тоже становились частью традиции, освящённой стариной. И когда русским людям сказали, что их вера, освящённая веками, вера единственного православного царства на земле, искажена и испорчена — сознание людей закономерно восприняло это как приближение времени Антихриста и конца света. Свою роль сыграли и непримиримость властного Никона, щедро рассыпавшего анафемы на непокорных, и сомнительное качество греческих образцов, по которым исправлялись книги, и обрядоверие, эта вечная проблема русской Церкви, но главную идейную причину Шмеман, вслед за Г. Флоровским, видит именно в развенчании мечты об истинной вере Третьего Рима и всплеске апокалиптических ожиданий.

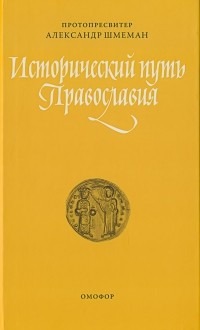
Комментарии
Вот интересно: из Иерусалима центр православия переместился в Константинополь. Иерусалим со временем был потерян. Из Константинополя — в Россию. Константинополь несколько веков спустя тоже был потерян. В современной России, как говорят данные разных исследований, воцерковлённых православных — несколько процентов. Какая страна станет следующей? Мне почему-то кажется, что либо Грузия, либо… Америка.
На страницах «Исторического пути» нашли своё место выдержки из сочинений Игнатия Богоносца, Иринея Лионского, Киприана Карфагенского, Тертуллиана и Оригена. Ориген, кажется, Шмеману по-человечески глубоко симпатичен — возможно, он видит в нём такого же деятельного церковного интеллектуала, каким является сам, — для рассказа о нём он выделил отдельную главу (Тертуллиан такой привилегии не удостоился). Из относительно современных авторов Шмеман ссылается на В. В. Болотова, А. П. Лопухина, Георгия Флоровского, А. В. Карташёва (одного из своих учителей), Г. П. Федотова, В. В. Вейдле. В рассказе о гностиках он упоминает мнение Н. А. Бердяева. В свою очередь, мысли Шмемана об иконе как свидетельстве боговоплощения Христа перекликаются с похожими размышлениями С. И. Фуделя. Ссылается он и на неправославных авторов — на Адольфа Гарнака, Пьера Батиффоля, на католического аббата Ф. Дворника.
Иногда заметны следы эпохи, в которую писалась книга, попытки возразить на нетрадиционные истолкования событий церковной истории: в одном месте Шмеман пишет о неудачности применения термина «коммунизм» по отношению к первохристианской общине, в другом — о том, что неправильно видеть в возникновении Церкви только социальное явление и едва ли не продукт классовой борьбы. Вместе с тем, он нет-нет, да употребляет фразы вроде «церковные массы» — неосознанное заимствование терминологии идеологических противников?
Нужно понимать, что «Исторический путь православия» — это очерк истории Церкви, написанный человеком, находящимся внутри церковной традиции. Его книга обращена к «своим» — автор предполагает, что его читатели (а изначально — слушатели), во-первых, уже подготовлены должным образом, и базовые христианские понятия не будут для них чем-то новым и неизведанным, и во-вторых — что они разделяют его веру, то есть находятся внутри традиции, как и он сам. Постороннему человеку, прямо скажем, книга может быть интересна только как хороший пример православного взгляда на историю православной же Церкви.
Несмотря на сравнительно небольшой объём (в моём издании в ней 416 страниц), для неподготовленного читателя она довольно сложна. Текст написан на высоком интеллектуальном уровне: автор свободно выстраивает логические цепочки из богословских и историко-религиозных размышлений, приводя при этом исторические сведения, на которые он опирается. Поэтому Шмеман — это не тот автор, которого можно читать наспех. Он, скорее, располагает к неспешному чтению с размышлениями о каждой прочитанной главе.
В общем, книжка у Шмемана получилась весьма и весьма интересная. Это не хроника, то есть не простое изложение событий в их исторической последовательности, а попытка осмысления истории Церкви с точки зрения её самой — и нужно признать, что концепция Шмемана выглядит весьма убедительной. Я не так хорошо знаю историю христианства, чтобы понять, противоречит ли эта концепция фактам или нет, и если да, то насколько. Сам себе Шмеман, во всяком случае, не противоречит. Он умён, очень умён, и способен не только на выявление простейших причинно-следственных связей, но и на глубокий анализ и синтез, на создание стройной концепции на основании имеющихся исторических сведений.