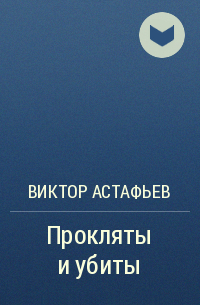Больше рецензий
26 мая 2022 г. 17:28
2K
5
РецензияНеоконченный роман "Прокляты и убиты" о жизни солдат в запасном полку (первая часть, "Чëртова яма") и потом тех же солдат на фронте при форсировании Днепра (вторая часть, "Плацдарм") был написан Астафьевым уже в 90-х, то есть спустя почти полвека после войны, добровольцем на которой он был сам. И, как бы не хотелось, чтобы это невыносимое описание жестокости и ужасов войны бы странным самоистязательным вымыслом автора, – "место действия, материал и большинство людей не придуманы автором, а подняты с родной земли, извлечены из памяти". Хотя после публикации Астафьеву писали как солдаты-фронтовики с таким же опытом, исповедуясь и иногда впервые выговариваясь (из их писем можно составить страшный многотомник), так писали и те, кто отказывался верить, что война такая. Возмущëнно отрицая эту правду осознанно или не очень.
Хранить память о войне удобно в оболочке героического пафоса (особенно 3-4-5-ому поколению, от которых реальное содержание войны уходит всё дальше). И любые попытки поделиться правдой о войне, о том, с какими ужасами она неразрывно связана, как на самом деле изо дня в день солдаты жили свою повседневную жизнь на фронте или по дороге к нему, как нелепо/мучительно/отвратительно, оскорбляя достоинство каждой человеческой личности эта жизнь обрывается, – все попытки излить знание о в действительности пройденном кошмаре часто встречают жëсткое сопротивление. Откуда оно? Это как в историях про мирных жителей мест, соседствующих с концлагерями, когда уже совсем после они удивлëнно восклицали "ах! а я ничего и не видел!"? Хотя чтобы не видеть, надо всё же знать, в какую сторону не стоит смотреть?
Не менее малодушным представляется и такое обоснование: мол, нечего этою грязью, этим бытом порочить память о подвиге народа. Как будто все эти невыносимые условия его отрицают! Напротив, то, что советские люди - то есть каждый конкретный человек (!) - совершили этот подвиг, невзирая на все сложности, на казалось бы неодолимые препятствия (которые донельзя часто чинились советским государством по отношению к своим же гражданам, этому бесплатному и почти бесконечному ресурсу), лишь делает подвиг ещё более значительным и весомым (хотя куда весомее, кажется, – цена и так в несколько миллионов человеческих жизней).
Если до прочтения может не быть никаких глубинно пережитых мыслей на тему банальностей вроде "война=зло", то если неотрывно, без защитных "такого быть не могло" или "что ж, благо у нас такое никогда больше не повторится" (ха!), если превозмогая очень болезненное сопротивление всё же прочесть "Прокляты и убиты", – мысли появятся, сформируется весьма определëнное отношение. Оно не может не сформироваться, когда упорно, на протяжении долгих страниц читаешь, какой проявляет себя жизнь в пограничной области между существованием и смертью, когда у солдатов не было толком ни еды, ни обмундирования, ни оружия; когда человек ежечасно думает не о своëм великом призвании и прославлении своего имени в памяти благодарных потомков, а о том, как уловить хоть час на сон, как избавиться от вшей, как не угодить в лапы вездесущего политотдела; как при переправе не утонуть, на правом берегу не попасть под обстрел немцев, на левом - заградотряда; думает, как прожить хотя бы ещё один бесконечный день.
И ладно была бы какая-то опора, защита, бесспорный смысл; но всё, что было у героев до войны, прахом развевается по ветру. У большинства и до войны жизнь была не сахар: раскулачивание, бедность, повсеместная разруха, гонения по поводу и без, работа в колхозах на износ, жизнь впроголодь в тылу, чтобы на фронт отправить самое лучшее (которое, судя по всему, оседало в штабах у многочисленных полковников и их обслуги). Многие не успели ни семью основать, ни любовь начать. Политической ежедневной промывке в запасном полку никто давно не внимал (как бы сладко она ни убаюкивала сознание идеей великого пути избранного народа, который призван весь мир освободить от зла). Но даже тех, кто пришёл в солдаты с собственным устойчивым стержнем (как старообрядец Коля Рындин), всё равно сбивает с ног это противоестественное положение вещей, когда человек, рождённый для жизни, во имя еë продолжения и приумножения, упорно и методично, применяя самые изощрённые способы, сеет лишь смерть.
Хотя, безусловно, в романе много критики советской власти, еë преступлений, её отношения к своему народу, много ярости и возмущения по отношению к трусам, которые с лёгкостью посылали людей на убой, требовали в жертву отдать жизнь за родину, а сами отсиживались в своих норах, – главное внимание всë равно обращено к тем людям, что были брошены судьбой в нечеловеческие условия. Не по их лекалам делались монументальные постаменты героев ВОВ, но зато их честность перед собой, стойкость и мужество реальны, они высечены боем и многострадальным трудом. И даже самому беззащитному, так неподходящему к военной жизни Феликсу Боярчику, придаëт силу и дерзость непоколебимая уверенность, что добро незыблемо на этой земле. Надо только самостоятельно и осознанно выстраивать собственные ценности, а не брать их из готовых картонных идеологий. Постараться представить, что это на самом деле такое - отобрать жизнь другого человека.
Можно, конечно, обойти всё это стороной как давно уже бывшее; только вот налог на наследство мы выплачиваем до сих пор. Противостояние государства и его "населения", поиск внутренних врагов, несомненная для многих необходимость какой-то "сильной руки". Кому-то в таком раскладе точно не повезëт, как не берегись, и тогда попадëтся он под колесо - и нет человека. И пока это не ты сам, то ясно, проще не думать, проще смерть оправдывать, не замечать то страшное колесо, что косит совсем рядом других.
Желание, чтобы у одних людей (не?наших) жизнь не отнимали, совсем не равняется желанию, чтобы умерли другие (?наши). Утверждение жизни/сопротивление смерти не сводится к непатриотичности. Оно в разы больше и сильнее. Оно не про границы определëнных территорий и орудующего на них Левиафана, а про безусловную ценность каждой человеческой жизни. Не абстрактной, а в том числе и твоей.
Хоть после прочтения много остаточного после сопереживания горя, всë же главное, что сохранится, - обновлённое, щемящее, бережное отношение к любой жизни, драгоценной и хрупкой.
"Вот возьми и осмысли этот мир, осмысли и полюби"