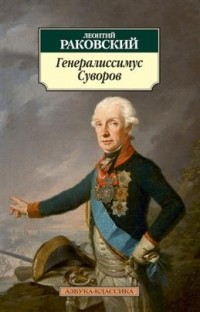Больше рецензий
4 июля 2022 г. 22:52
598
4 От ненависти до любви. От штампа до скрупулёзности.
Рецензия«История — это политика, опрокинутая в прошлое».
В нашей стране, как и в целом в мире, историческая наука прошла, да и проходит по сей день, весьма непростой путь. Возникнув, именно как наука, в веке так в XVIII и достигнув подлинного расцвета в последующем столетие (бурно расцветая на растущем национальном самосознание) она чуть не схлопнулась в один присест в горниле постреволюционного угара, чтобы, «аки птица феникс», вновь переродиться на все том же топливе национальных и патриотических чувств. 30-е годы XX века вобрали в себя новые идеологические шаги, продиктованные возвеличиванием Российского прошлого. Критикуя концепции Покровского, обвиняя его самого и его последователей в «антипатриотизме» и «очернительстве истории России»; государство, оставаясь на рельсах идеологии Марксизма, тем не менее обратило свой взор на два принципиальных момента. Во-первых, это роль личности в истории. Во-вторых, это обращение к историческому прошлому с целью демонстрации его в определённом патриотически выверенном духе. Как первое, так и последнее принципиально для нас появлением целой плеяды талантливых прозаиков и публицистов чьи работы «приоткрывали перед нами завесу исторических тайн». Широкая масса не будет копаться в тонкостях концепций Фроянова или Грекова, ей подавай язык более простой и доступный. Путь абсолютного большинства в историческую науку начинался исключительно через историческую же литературу.
Моей главной любовью был и останется Скотт, его творчество не только определило мой дальнейший жизненный путь, но и породило любовь к качественной исторической литературе. И тогда, и сейчас, оставаясь верным себе и стараясь при высшем приоритете субъективности в литературе быть хоть чуточку объективным, не могу не отметить главную заслугу «Шотландского чародея» - писать так, чтобы «было понятно ребенку и интересно взрослому». Этим Скотт затмил собою многих, в особенности тех, кого можно отнести к «Отечественным подражателям». Что в отрочестве, что, частично и в юности, читать прозаиков XIX века было сродни настоящей пытки. В сравнение со Скотом, Дюма, Стивенсоном такие легенды исторической романистики, как Лажечников или Данилевский неизменно проигрывали, проигрывали слогом, интересом, духом. Парадокс, но русский роман о русской истории казался мне куда более далекими и менее понятным чем его собрат из другого бока Европы. В пылу юношества многое можно было списать на интерес к авантюрным историям к тому, что назвали бы «духом приключения». Наша проза казалась небогатой подобными вещами. Потому-то, минуя пласт XIX века, многие погружались в литературу века XX. Чей исторический интерес, со временем перестал ограничиваться исключительно образами Петра и Грозного Ивана вкупе с народными восстаниями и мятежами. Роковые сороковые потребовали обращения к славному историческому прошлому:
«Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!».
Имена Суворова, Кутузова, Ушакова, Невского, Хмельницкого увековечивались в названии наград, кодовых обозначений операций, по ним снимали кино и писали книги. Причем процесс этого увековечивания начался еще до событий Великой Отечественной войны. Советская героизация прошлого фактически началась в 30-х годах и имя Леонтия Раковского здесь стоит особняком. Именно его перу принадлежат романы сразу о трех выше упоминаемых фигурах: Суворов, Кутузов, Ушаков.
«Суворов» Раковского – это прежде всего галерея событий XVIII века, её скорее можно сравнить со сборником рассказов связанных общностью линий героев, чем с классическим романом, написанным в духе Скотта или его подражателей. Роман-биография сам по себе непростой жанр – это тот случай, когда хочется сказать обо всем, но в какой-то момент ты понимаешь, что в таком виде история грозит превратиться либо в хронику, либо в сборник, здесь вышло второе. Мы скачем по театрам военных действий, порой перепрыгивая целые десятилетия; встречаем героев, кои уже никогда более не возникнут на страницах этого романа; здесь нет места богатым описаниям Гюго, размеренному темпу Скотта, да оно и не удивительно! Вспомните о ком эта книга! «Только вперед!». Высокий темп, заданный автором, кажется не мешает ему сконцентрироваться на всех знаковых легендах, связанных с его героем. Вот вам «Наука побеждать» диктуемая и применяемая; вот вам детство и образ болезненного мальчика поднимаемая во встрече с отцом; вот вам увлечение поэзией, то тут то там всплывающая в тексте; вот вам меткие фразы и необычность поведения, по сей день вспоминаемые то к месту то не к месту. Вообще Автору удалось избежать как академичности, так и, что было бы еще хуже, анекдотичности образа своего героя. Суворов Раковского получился очень живым персонажем, что особенно остро ощущается в последних главах романа, а главное удивительно точно воспроизведенным. Вообще скрупулёзность, с которой автор придерживается источников, приятно поражает – надо понимать, что многие реплики и фразы не придуманы самим Раковским, а вплетаются в повествование на основе воспоминаний тех, кто прошел горнило сражений вместе с генералиссимусом. Так сцена из прибытия Суворова к войскам в Верону, во время Италийской кампании, почти целиком взята из воспоминаний Багратиона:
«Всех поразила экстравагантная манера главнокомандующего. Он стоял с закрытыми глазами, и когда Розенберг называл имена генералов, ему незнакомых, открывал глаза и говорил: «Помилуй Бог! Не слыхал! Познакомимся!».
А ведь перед нами без малого сорок лет жизненного пути, вместившее в себя множество сражений, триумфов баталий и сложностей при дворе.
Хронология истории, да и сам объем романа, при всем при том, практически не заметны. Легкость повествования невольно заставляет воскликнуть: «Уж восемнадцатый ли век перед нами!?» Впрочем, не стоит забывать, когда роман писался. Да и легкость истории служит палкой о двух концах. Перед нами скорее юношеское, а не взрослое произведение. Роману о XVIII веке не хватает самого XVIII века. Он слишком параден, слишком черно-бел, в нем нет серых оттенков, нет самой эпохи, это именно, что музей, в который повели группу школьников: «Вот ребята исторические фигуры, эти хорошие, а эти плохие»; Раковский упрощает и штампует для нас историю. Отношения Потемкина и Суворова были куда теплее. Фигура Каменского была куда более сложной и неоднозначной чем она предстала на страницах романа, а ведь не многие знают, что сын Михаила Каменского – Николай – служил под началом Суворова и не просто принял участие в Швейцарском походе, а отличился при взятие Чертова моста, за что получил от Суворова особую награду: «Самого же Николая Михайловича с этого времени, намекая на его заслуги в этом бою, он стал называть Чёртовым генералом». Даром, что и отец, и его сыновья (у Каменского было двоя сыновей и оба стали генералами) отличались весьма тяжелыми (если не сказать неуживчивыми) характерами, а Михаил Каменский не только по-чёрному завидовал Суворову, но даже пытался во всем ему подражать (оставаясь при этом верным своему тяжелому нраву). Попробуй Раковский сыграть на этих контрастах, попробуй он чуть раскрыть некоторые аспекты, история вышла бы живее и литературное… Но ничего этого нет даже близко: Каменский лишь низведен до роли пруссофила, Потемкин – до роли царедворца (хотя даже она толком и не раскрыта, служа лишь преамбулой к Измаилу), Павел критикуется за военную реформу (что тоже весьма однобоко и не всегда справедливо). Во всем этом присутствует некая штамповоность, из-за чего «Суворов» Раковского несколько проигрывает в литературности таким жанровым примерам романа-биографии, как «Слово и дело» или «Фаворит» - за авторством Пикуля. Но стоит ли относится к этому критично? Придай Раковский неоднозначности всем, кто окажется на пути Суворова за более чем сорок лет описанных в романе и что вышло бы по итогу? Огромный масштаб событий с участием масштабной для нашей истории личности… быть может здесь и нет иного пути.
Заслуга «Суворова» однозначна. Сколь простодушным бы не был роман в отражение эпохи, он, как это не парадоксально, остается очень категоричным в отражение своего героя. Суворов – это не просто одно из имен нашей истории. Эта была фигура подобных коей не было, да и скорее всего больше и не будет: «Пройдут многие годы, явятся в русском народе другие великие вожди, но каждый раз, когда стальная стена штыков русских должна будет обрушиться на врагов, мы вспомним Суворова». Раковскому удалось показать нам эту фигуру, такой какой она в действительности была, избежав ненужной мишуры, анекдотичности, «преувеличения личных подвигов», оставив перед нами лишь солдата и его безграничную и НАСТОЯЩУЮ любовь к Отечеству!
Кто перед ратью будет, пылая,
Ездить на кляче, есть сухари;
В стуже и в зное меч закаляя,
Спать на соломе, бдеть до зари;
Тысячи воинств, стен и затворов
С горстью россиян все побеждать?
Быть везде первым в мужестве строгом;
Шутками зависть, злобу штыком,
Рок низлагать молитвой и богом,
Скиптры давая, зваться рабом;
Доблестей быв страдалец единых,
Жить для царей, себя изнурять?