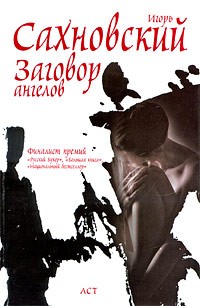Больше рецензий
3 сентября 2022 г. 19:18
162
3 Что подано? Литературный винегрет!
РецензияКанадско-американский педагог Лоренс Питер однажды иронично подметил, что до изобретения аннотаций автор вынужден был создавать себе имя писательским мастерством. И хотя в отношении Игоря Сахновского такого рода заявление звучит странно (лауреат литературных премий международного и всероссийского масштаба), именно оно созвучно издательской характеристике «Заговора ангелов», выполненной по всем законам рекламного жанра. Здесь:
- указание, казалось бы, на ключевой сюжет книги («Фамильная легенда гласит: загадочная женщина, исчезнувшая два века назад, по сей день является мужчинам и кардинально меняет их судьбы»);
- цитата, отсылающая к неожиданному событию («Та женщина на портрете… Она появилась»);
- сообщение о привлекательных свойствах товара («Эта книга о физиологии чуда, о любви, о времени, которого нет»), подкрепленное авторитетом литературного критика и писателя Льва Данилкина («…получается не "реализм," а летучий эфир из жизни, ее квинтэссенция»);
- вызревшая в результате чрезмерность читательского ожидания.
Впечатление от романа парадоксально: все из заявленного имеет место быть, но одновременно с этим и отсутствовать. Как говорится, если реклама не лжет, значит, она о чем-то умалчивает, в данном случае – о распадении книги на отдельные физиологии чудес, отдельные проявления любви и отдельные времена из-за единичных или неявных предпосылок для связывания их воедино.
Времени в книге действительно нет, потому что повествование выстраивается в коллаж неупорядоченных историко-культурных ситуаций: начинаясь с апокрифического сказания о Лилит, отсылающего к началу времен, оно затронет и вакханалии Древней Греции, и испанский королевский двор 16 века, и Россию времен Великой отечественной войны наряду с нынешней, и современную Англию. Масштабно? Если измерять годами, разделяющими друг от друга события, − да. Если впечатлением, оставляемым ими в совокупности – сомнительно:
- трагические, а местами и с претензией на философию страницы семейной хроники перемежаются с галантными, но при этом, согласно самой же книге, с привкусом клубнички записками маркиза-ловеласа, фривольной эротикой, отнюдь не лаконичным описанием фанатичных безумств;
- выдержки из классических текстов, Плутарха, Овидия, Силенциария, Платона, Эпихарма, Еврипида, Рильке, Борхеса… (призванные, по-видимому, ореалить легенды и чуть ли не документальной правдоподобностью подыграть автобиографичности повествования, а по существу подчеркивающие кругозор пишущего) соседствуют с современным жаргоном.
В результате получается текст-ассорти. С одной стороны, удобный и для автора, и для читателя (угодит любому литературному пристрастию: представит и мифологию, и исторический очерк, и путевую заметку, и детектив, и эссе). С другой − неудобный на для того, ни для другого: одна картина несколько тускнеет при переходе к следующей, ведь, как говорится, стоять наряду с великими не всегда приятно и выгодно.
Казалось бы, определенные предпосылки для сведения повествования к единому стержню имеются: все стягивается к рассказчику, своего рода авторскому двойнику (отсюда и филологическое образование героя, и его занятия литературным творчеством, вылившиеся в создание романа, названием аналогичного первому роману самого И. Сахновского «Насущные нужды умерших»), а точнее – к истории его рода, развернутой на фоне всего человечества. С фактической точки зрения она несколько урезана: начинается с ближайшей ветви бабушки и дедушки по материнской линии. С символической − свернута к той самой изначальной глубине веков, давшей старт всему повествованию: восходит к Адаму, Еве и Лилит. И калейдоскопичность при такой ретроспективе становится оправданной, ведь воспоминания клочковаты, а не рулонообразны и предназначены для фиксации наиболее существенного, что в романе представлено целым рядом проблем:
- что есть творчество и с чем его обожествляют люди (генерирование ли это новой идеи с неиссякаемой тягой к совершенству или любой вид самовыражения, самим человеком воспринимаемый как проявление его индивидуальности);
- что есть дружба (панибратство или серьезные разговоры о главных вещах);
- что есть жизнь (телесная архитектура, физиологическая жилплощадь или эмоции и чувства: «…В царстве мертвых не бывает прелестных загорелых рук»);
- что есть смерть (взвешивание пропорций несвободы: чем больше дружеских и родственных связей - тем цепче хватаешься за жизнь);
- что есть любовь (самопожертвование, привязанность, привычка, эротика);
- в чем суть человеческих взаимоотношений (именно на фоне всеобщей истории, разные периоды которой дублируют друг друга по проявлению человеческих надежд и разочарований, взлетов и падений, обретений и потерь, апатии и эмоциональности, смиренности и самовольства, изначально сугубо сексуальный вопрос о том, что лучше «долго-долго любоваться, трогая при этом, где захочу, или же один раз быстро "сделаться"» переосмысляется в мировоззренческий, когда герой делает выбор в пользу первого варианта, мотивируя это тем, что таким образом не оскверняется Бог, сделавший человека по образу и подобию своему в надежде видеть его глазами, смотреть и осязать им).
«Долго-долго любоваться» − это уже присматриваться и понимать, а значит, и принимать, тем и необоснованнее выглядит настойчивое построение повествования на веренице брошенных спутников и спутниц, общая масса которой подавляет, прерывая, единственную сюжетную линию о счастливой в своей обоюдной любви паре − Берте и Романе. Хотя подобное умолчание на уровне сюжетных и межсюжетных линий вскоре превращается в тенденцию, поскольку многое в историях обрывается словно на полуслове либо предъявляется с пробелами: не мотивируются ночной дебош отца рассказчика (вскользь данная отсылка к ревности в расчет не берется), его переезд в другой город без обожаемой семьи, сходство испанки Марии, запечатленной на портрете, с общей знакомой рассказчика и его друга Диной. Такая калейдоскопичность изображения, при которой отсутствуют некоторые части мозаики, может создать впечатление того, что изначально планировалось более крупное произведение, но по не снизошедшим до нас причинам оно было ужато.
Истории предлагаются в своем нереализованном потенциале, поэтому прервать чтение можно в любой момент, не сокрушаясь ни по поводу отступления от легкого для восприятия, сдержанного, лаконичного авторского слога, ни по поводу незнания продолжения (собственно главная интрига – явление женщины с портрета мужским представителям отдельного семейства как предвестие их скорой смерти – проявляется лишь в начале и конце книги, при этом к концу из-за своего выпадения в середине лишается своей специфической ценности).
Говорят, «есть книги, которые надо только отведать, есть такие, которые лучше всего проглотить, и лишь немногие стоит разжевать и переварить; иначе говоря, одни книги следует прочесть лишь частично, другие — без особого прилежания и лишь немногие — целиком и внимательно». Теперь решайте, к какой категории относится «Заговор ангелов».