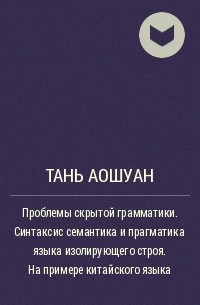Больше рецензий
9 ноября 2022 г. 06:30
139
5 Рецензия Н.Д. Арутюновой
РецензияИсследование Тань Аошуан посвящено механизмам функционирования языковой системы изолирующего типа и тем средствам, которыми оно обеспечивается. Работа построена на материале современного китайского языка.
В изолирующем языке отсутствует"явная" и как бы "материализованная" грамматика, которая могла бы быть описана автономно и независимо от конкретных высказываний (речевых актов) — с одной стороны, и от лексического состава языка — с другой. Естественно, что грамматические модели и грамматическая терминология были разработаны прежде всего применительно к языкам с явной грамматикой — индоевропейским языкам флективного типа. Они задали основную систему грамматических значений и терминов. Исследователь, работающий с языками иных типов, в частности, китаист, оказывается перед альтернативой. Он может либо принять уже существующую систему и адаптировать ее к своему объекту, либо отказаться от понятия грамматики, связанного с морфологически развитыми языками, либо предло-жить иную модель описания и обновить терминологию. Тань Аошуан выбрала третий путь.
Автор исходит из того, что язык не может функционировать без системы правил кодирования (и соответственно, декодирования) некоторого содержания. Эти правила считаются грамматическими, несмотря на сильную зависимость от прагматики, лексического значения и несмотря на то, что они не полностью отвечают условию облигаторности. Обязательность выражения значений диктуется условиями употребления. Дефицит выраженности значений объясняется чрезвычайной экономностью китайского языка, недопускающего избыточности и широко пользующегося значимыми нулями и чисто праг-матической информацией. Заметим, что сами понятия грамматики, грамматической категории, грамматического правила, грамматической формы и грамматического значения (в отличие от других типов форм и значений) в монографии подробно не рассматриваются. Автор предлагает детально продуманную синкретическую модель порождения высказываний (охватывающую все уровни), исходным материалом которой служат классы лексически значимых единиц, служебные маркеры, порядок слов и просодические явления (тон, акцент, интонация), τ. е. в эту модель в первую очередь включен план выражения. Что касается грамматических значений, то автор исходит из мысли об универсальности их основного фонда. Поскольку предметом исследования является синтаксис высказывания (речевого акта), это в общем справедливо. Тань Аошуан отказывается от терминологии, на которой лежит какой-либо идиоэтнический отпечаток. Однако она описывает "скрытые" грамматические значения в терминах, принятых в синтаксисе флективных языков. Так, например, в порядке слов автор видит скрытую категорию падежа. Всякая грамматическая категория предполагает развертывание в некоторую систему. В китайском языке падежная парадигма, по-видимому, не выделима. Вместе с тем автор не полностью принимает и концепцию падежа как семантической роли актанта, предложенную Чарлзом Филмором.
В целом понятие грамматической категории интерпретируется автором как обобщенное значение, организующее не грамматические парадигмы слов, а коммуникативные парадигмы речевых актов. Части речи (имя, глагол, прилагательное,наречие, предлоги), члены предложения и ряд других традиционных грамматических категорий приобретает статус семантических универсалий, независимых от способов их выражения и даже уровня языковой структуры, на котором они появляются (так, лексемы стабилизируются только в рамках синтаксических конструкций). Собственно "скрытым" является некоторый набор универсальных, а также лингвоспецифических значений, которые постепенно раскрываются при переходе от одного уровня к другому и в терминах которых формируются правила речеобразования.
Подграмматикой, таким образом, понимается модель порождения коммуникативных единиц. Правила порождения погружены в живые речевые произведения - речевые акты и тексты. С них автор и начинает свое исследование, непосредственно обращаясь к анализу звучащей, т.е. интонационно оформленной и ак-центуированной речи, обладающей лексическим наполнением и иллокутивной силой. Из нее путем поэтапного анализа автор извлекает правила "скрытой грамматики", которые затем проверяются методами тестирования, лингвистическими экспериментами и сопоставлением с другими языками. В итоге автор приходит к формулированию единой системы правил порождения речи. Высказывание (речевой акт) служит, таким образом, и исходным пунктом исследования, и его конечнымрезультатом. На пути выявления правил скрытой грамматики Тань Аошуан проходит через все уровни языка - от порядка слов, интонации и акцентного выделения до детального описания категорий глагола и имени.
На каждом уровне анализ выполнен с исключительной тщательностью. Мы хотим подчеркнуть это, посколь-ку автор обращается непосредственно к речевым произведениям и текстам — своего рода "сырому материалу", к которому еще не была применена выбранная методика описания.
Автор начинает с анализа порядка слов в исходной синтаксической структуре. При этом подчеркивается, что в китайском языке глагол семантически диффузен. Он приобретает смысловую определенность, т.е. получает статус лексемы, только тогда, когда его валентности заполняются в рамках той или другой синтаксической конструкции. Вследствие релевантности порядка слов для семантической интерпретации высказывания, его роль в актуальном членении невелика. На коммуникативном уровне основная нагрузка падает на взаимодействие тона и интонации, о котором можно говорить только применительно к ре-альным высказываниям. Просодика китайского языка, как известно, чрезвычайно сложна. Поэтому предложенное в работе систематическое ее описание представляет большую ценность. Особое внимание уделено акцентному выделению, типам акцентов и возможностям их реализации в речевых актах - преимущественно повествовательных. Проблема вопросительных высказываний автором не затрагивается.
Далее Тань Аошуан переходит от анализа высказывания как целостной единицы к описанию его центрального компонента глагольного предиката и его грамматических категорий — аспекта и времени. По набору релевантных для этих категорий признаков (статичность, предельность, эволюционность,моментальность) она выделяет пять семантических типов предикатов, в число которых во-шел важный для китайского языка, но отсутствующий в классификации 3. Вендлера, тип глаголов "нарастающих процессов". В остальном выделяемые семантические типы, в том числе предикаты стативных явлений, деятельности и достижения, видимо, универсальны.
На фоне универсальной (или квазиуниверсальной) классификации ярко выделяются отличия китайской картины мира от среднеевропейского стандарта. Так, например, в китайском языке невозможен лексический"распад" единых ситуаций, т.е. такие пары как русск. искать и находить представляется одним глаголом zhao 'искать', для обозначения же результативности к нему присоединяется глагол моментального действия dao: zhaodao означает найти'.
Очень интересно написан фрагмент, посвященный особенностям китайской картины мира, в которой проводится четкая граница между миром человека и противостоящим ему миром объектов. Следует также отметить разделы, демонстрирующие большую конкретность китайской глагольной семантики, относящейся к миру человека, сравнительно с русской. Контраст был бы еще большим, если бы к сравнению был привлечен, например, французский язык, дескриптивность которого шла по нисходящей. Это сопоставление могло бы оказаться уместным при сравнении китайской кулинарной лексики (ей посвящен увлекательный фрагмент второй части третьей главы) с "языком" французской кулинарии, столь же изощренной, как и китайская, но, очевидно, не располагающейстоль богатой лексикой. Вместе с тем, как продемонстрировано в исследовании Тань Аошуан, набор китайскихглаголов, обозначающих способы существования природных и артефактных объектов, невелик. В этом сказалось чисто утилитарное отношение человека к природе и животному миру. Китайская картина мира более антропоцентрична, чем среднеевропейская.
Мы хотим еще раз подчеркнуть, что автор умело ипроницательно соотносит семантическую типологию глаголов со сложившейся и зафиксированной в китайском языке картиной мира. Центральное место в монографии занимают главы 4-6 части второй. В них рассмотрена нормативная картина мира и, следовательно, семантика оценки. Она развернута на материале направительной, результативной и потенциальной форм предикатов. Главы написаны на высоком профессиональном уровне — строго, четко, современно. В анализе так называемых направительных результативов использованы понятия денотативного пространства, точки отсчета, места наблюдателя и места говорящего, т.е. вся система пространственного деиксиса, позволившая автору объединить функции направительных морфем в единую систему.
Представляется обоснованным разделение, проведенное автором между понятиями цели, результата и предела действия: действие может достигнуть предела, оставаясь нерезультативным. Результативные морфемы описываются автором также очень подробно и отдельно от направительных. Здесь большую роль приобретает аксиологический параметр действия. Автор отмечает продуктивность морфем, обозначающих аномальные состояния и всякого рода осечки и сбои в осуществлении целенаправленных действий.
Завершается этачасть монографии описанием потенциальных конструкций в их отношении к частно- и об-ще оценочным прилагательным. Остальные главы (7-11) второй части целиком посвящены скрупулезному анализу значений, функций и прагматических условий употребления аспектуально-темпоральных показателей. Анализ выполнен в терминах временных операторов — "смысловых (мы бы сказали формальных) показателей скрытой грамматики", играющих роль маркеров тех или иных временных значений. Обращение к операторам позволяет ослабить влияние грамматик, характерных для языков иных типов. В книге подробно описаны: оператор синхронности zheng, оператор переключения действия в состояние zhe и др. Особый интерес представляет анализ очень сложного в функциональном отношении оператора переключения состояния 1е. Автору удалось добиться унифицированного описания его раз-нообразных функций применением метода логического анализа. Сложность здесь состоит в том, что понятие "состояние" неоднородно. Оно может подразумевать не только эпистемическое, но и другие состояния психики: намерения, вкусы и даже жизненные позиции. В главах 9, 10, 11 части второй большое внимание уделено систематизации средств, участвующих в выражении аспектуальных значений. Эти значения определяются в терминах русской видовой системы: ср. конкретно-фактическое, фактивное, конкретно-процессуальное значения и др. Здесь ярко показана та роль, которую выполняют прагматические данные в изолирующих языках.
Прагматические правила в китайском языке столь же облигаторны, как грамматические правила в языках с развитой морфологией. Немалый интерес представляет рассмотрение отрицания, выполненное также методом логического анализа. В китайском языке существует два показателя отрицания bu (NEG1) и mei (NEG2). Глубинные различиямежду отрицательными формативами сводятся к тому, что NEG1 функционирует как оператор истинности, тогда как NEG2 является оператором отрицания фактивности предиката: "имеет / не имеет место". NEG1 и NEG2 противопоставлены по признаку статальности, положительное значение которого приписывается NEG1. В сферу его действия входят классифицирующие и оценивающие предикаты. В случае выражения предиката акциональным глаголом NEG1 отрицает намерение агенса совершить действие, возможность его совершения с точки зрения говорящего и другие модусы. Например: (1) а) Та bu qu Beijing 'Он не поедет в Пекин', ср. Та yao qu Beijing 'Он намерен поехать в Пекин'; б) Xiao Wang jintian bu lai 'Сяо Ван сегодня не придет', ср. Xiao Wang jintian yao lai 'Сяо Ван сегодня намерен приехать' (с 583).
NEG2 отрицает предикаты события, факта, процесса и состояния. Сфера действия этого показателя связана с диктумом предложения, а показателя bu — с его модусом. Это означает, что, отрицая ситуацию Р, NEG2 указывает на неверность того, что в момент Τι имеет место ситуация Ρ. Значение Τι определяется соотношением между Ts (временем речи), Те (временем предполагаемого события) и Тг (точкой отсчета). NEG1 отрицает только компоненты значения, входящие всферу его действия, и поэтому не имеет непосредственного отношения ко времени. Соотнесенность предиката, оформленного NEG1., со временем определяется характером самого предиката и контекстом высказывания. Сравним:(2) a) Wo bu chi fan bu he shui wu tian le 'Я не ем и не пью уже пять дней', б) Wo mei chi fan mei he shui wu tian le Я не ел и не пил уже пять дней' (т.е.уже пять дней продолжается отсутствие факта (события) 'есть' и 'пить')(с. 593).
Часть четвертая целиком посвящена имени. Автор подробно описывает референцию общих имен, осуществляемую счетными словами с учетом семантического типа имени, а также его образности и поэтичности. Последнее обстоятельство представляется уникальным свойством китайского языка: счетные слова при именных группах участвуют в создании художественного образа. Другая особенность китайского языка, подробно раскрытая в книге, состоит в том, что семантика счетных слов связана с миром человека. Если при именных группах, обозначающих компоненты этого мира, употребляется счетное слово со значением неисчисляемости, то речь идет о своего рода "предметной" характеристике человека. Если же счетное слово переключается из сферы неодушевленных имен в область имен, относящихся к человеку, то именная группа получает метафорическое значение. Ср.:(3) a) yi jian yifu 'один предмет одежды', б) yi shen yifu 'одно тело одежды'(с. 639). Таким образом, в китайском языке, даже в кванторной семантике присутствуют элементы национальной картины мира, в которой мир человека противостоит предметной, или "другой", реальности. Это противопоставление прослеживается также в употреблении маркера множественного числа и в системе личных местоимений. В частности, предметы, не входящие в мир человека, часто интерпретируются в терминах собирательных множеств. Например:(4) Zhe xie xiaber shu dai qu gan ma? 'Зачемтебе эти комиксы? 'Ni ba ta cong shubaoli na chulai 'Вынь их из портфеля!' (с. 657).
15-я глава имеет своей темой анализ категории определенности/неопределенности. Анализ выполнен путем сопоставления артиклевых языков (английского и немецкого) и безартиклевых, но разнотипных - русского и китайского. В китайском языке указанное противопоставление подчинено коммуникативной оппозиции данного и нового. При этом данное понимается широко: все то, что входит в фонд энциклопедических знаний адресата речевого акта, считается данным, т.е. имеет презумпцию определенности, и его детерминация избыточна. Анализ и описание типов референции имен выполнены автором в логических терминах. Выбранный метод оказался эффективным и был применен вполне компетентно.
В заключение необходимо отметить, что исследование Тань Аошуан гармонически сочетает высокий теоретический уровень с обстоятельным описанием материала. Теоретическая аргументация всегда подтверждается языковыми данными. Предложенная в работе лексическая типология поддержана точным компонентным анализом значений слов. На основании языкового материала автор реконструирует фрагменты национальной картины мира. Лингвистический анализ и интуиция автора неизменно проверяются лингвистическим экспериментом. Монография вносит много нового как в разработку моделей описания языков изолирующего типа, так и в анализ конкретных языковых данных. В теоретическом отношении книга существенно дополняет знания о механизмах порождения речи, заложенных в изолирующих языках. Исследования Тань Аошуан углубляют понятие типа языка, его линг-воспецифичности, вырисовывающейся на фоне семантических универсалий. Работа Тань Аошуан имеет большую практическую ценность. Она может быть использована при составлении теоретического и учебного синтаксиса китайского языка, а также пособий по анализу и интерпретации текста, в лексикографии, в развитии новых методов преподавания китайского языка. Но кроме практического значения, рецензируемая работа имеет фундаментальную теоретическую значимость для понимания типо-логии изолирующих языков. Автору удалось показать, что за их как бы "аграмматичностью" скрыта весьма определенная и облигаторная для говорящих грамматика. Автор выделяет два типа облигаторности. В первом случае обязательно как присутствие, так и отсутствие показателя грамматического значения. Нарушение этого правила либо делает высказывание аграмматичным (ненормативным), либо нарушает его иллокутивную функцию. Пример:(5) a) Li Ping shi [yi ge] piaoliang de guniang'Ли Пин красивая девушка' (с. 706),б) Lao Xu, ni cai [zhe tiao] guiyu shi duoshao qian? 'Старина Сюй, догадайся,сколько стоит окунь' (вместо "сколько стоит этот окунь") (с. 704). Во втором случае отсутствие грамматического показателя не нарушает языковую норму, но влияет на прагматический статус высказывания, ослабляя эффект его воздействия на адресата, т.е. его перлокутивную значимость:(5) в) Нао [yi chang] jilie de douzheng 'Это была настоящая схватка' (с. 710). Первый тип облигаторности лежит в сфере грамматики, второй принадлежит стилистике. Итак, у изолирующих (аморфных) языков существует прямая связь между коммуникативными категориями и механизмом функционирования системы значений, в то время как у флективных языков она опосредованна. Это позволяет говорить об "открытой" грамматике во втором случае и о "скрытой" — в первом.
Н.Д. Арутюнова