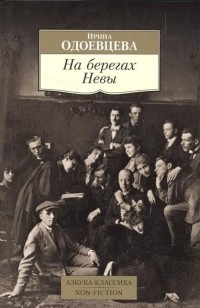Больше рецензий
11 декабря 2022 г. 12:23
443
5 «Я – только живая память»
РецензияНемного косящий, похожий на потерявшегося во времени и пространстве конквистадора в панцире железном Гумилёв. Воздушный, нездешний, будто сотканный из сверхфизической материи, но остро нуждавшийся во вполне материальном слушателе Белый. Уставший от пустой восторженности экзальтированных поклонниц, тёмноликий от разочарований, но сохранивший красоту и стать Блок. Молчаливый, гордый, размышляющий над вновь открытым законом собственного бессмертия Сологуб. Взъерошенный, слегка суетливый, пронзающий воздух остро выпирающим из-под запрокинутой головы кадыком и вечно над чем-то хохочущий Мандельштам. Барственный, подчёркнуто интеллигентный, похожий на доктора сразу всех наук Лозинский. Истеричная, чувственная, запутавшаяся в тенетах выдуманных любовей Ахматова. Все они и многие другие – персонажи биографического романа Ирины Одоевцевой «На берегах Невы», написанного в 1967 году.
Они постоянно мёрзнут и пытаются согреться у буржуек, не желающих растапливаться сырыми поленьями. Они постоянно голодны и стоят в очередях за кашей в столовых литературных учреждений. Некоторые из них стремятся выглядеть по-имперски импозантно, словно не случилось революции кожанок и тужурок, а другие, напротив, напяливают на себя немыслимые одежды, чтобы мимикрировать под новую, враждебную среду, но, разумеется, всё равно выделяются из неё неистребимой экстравагантностью. Но главное – они наслаждаются общением друг с другом, этой бесплатной роскошью, которая одна, кажется, не была дефицитом в те апокалипсические годы. Отсюда регулярные встречи, сборы в Доме искусств и множестве других домов, казённых и частных, чтобы говорить, слушать, вспоминать и читать стихи. Старые и свежие, любимые и ненавидимые.
Поэзия, искусство наполняют их жизнь и становятся искусственным воздухом, которым только и можно дышать в эпоху нетерпимого энтузиазма масс, когда собственная чуждость новым реалиям чувствуется всё острее и безнадёжнее. Кто-то стремится налаживать новую жизнь; кто-то пытается во что бы то ни стало жить как прежде, стараясь не замечать становление очередной инкарнации России на месте «слинявшей в три дня»; а кто-то и вовсе умирает. Своей смертью, как Блок, потерявший смыслы, силы, жизненные и творческие импульсы, или насильственной смертью, как Гумилёв, в своём старорежимном романтизме ввязавшись в какой-то нелепый заговор.
Одоевцева видит смерть этих двоих, словно подведшую черту под её собственным пребыванием в Советской России, выходит замуж за поэта Георгия Иванова и отправляется с ним за границу. Сначала кажется, что на чуть-чуть, только в командировку, но многие с ней прощаются, будто навсегда. Но она не хочет покидать Россию навсегда, и почти никто не хочет, хотя многим приходится – их объявляют «бывшими» и постепенно отовсюду выдавливают, под ними поджигают землю и мосты, им намекают и подмигивают, а самых непонятливых просто сажают на пароход и отправляют в долгое плавание по океану чужбинной бесприютности. Знаменитый «Философский пароход», кстати, отбыл из России в том же 1922 году, что и Ирина Одоевцева.
Эмиграция для этих людей – неизбывная трагедия; они не то, что эмигранты конца советской эпохи, ринувшиеся за колбасой и джинсами, и уж тем более не эти нынешние, предающие родину с гримасой брезгливости на холёных лицах. Для героев Одоевцевой, людей настоящей русской культуры, эмиграция – это не подлый и трусливый жест самоотречения от корней и национально-культурной идентичности, как для «нынешних», а боль, которую неутихающим аккомпанементом они пронесли сквозь все оставшиеся им годы. Это настоящий философский, литературный, поэтический пароход, а не его самозванная и до пошлости претенциозная имитация.
Вот почему, когда уже в конце 1980-х Одоевцеву находит в Париже русская журналистка Анна Колоницкая, влюбившаяся в её книги «На берегах Невы» и написанную вслед за ней «На берегах Сены», их героев и их автора, и предлагает 92-летней прикованной к постели поэтессе вернуться домой, та сразу соглашается. «Я всегда мечтала вернуться домой, в Россию», – говорит она. Конечно, это пока не настоящая Россия, а поздний СССР, неприглядный и неуютный, но разве за материальную и бытовую устроенность она в своё время так любила свою страну? Нет, за людей, за культуру, за радость живого, одухотворённого общения. А этого в период заката советской эпохи оказалось не меньше, чем в период кровавого рассвета.
Это выглядит неправдоподобным хэппи-эндом, прилепленным к драматичному роману ради выжимания очередной слезы, но всё это сущая правда: Одоевцева возвращается в 1987 году, поселяется рядом с местами, где когда-то жила и любила, и обретает популярность и читателей. Многосоттысячные тиражи книг, интервью на радио и телевидении, творческие вечера и встречи с публикой, в которой неудержимо растёт интерес к Серебряному веку и его замечательным героям, к этой богатой и полной чудес странице русской истории, которую зачем-то хотели вырвать, стерев из нашей культурной памяти эти огненные письмена. Не удалось, и среди многих прочих – благодаря Ирине Одоевцевой, сказавшей про себя «я только живая память о них».