22 ноября 2023 г. 08:47
509
4.5 КИПС и КЕПС
Книга интересная, автор хорошо подкована, но слишком большая теоретическая претензия подавляет живость и любопытность материала. Франсин Хирш попыталась представить книгу как ответ и корректировку знаменитой книги Терри Мартина , мол, тут он неправ и вот тут, но собственного материала, вернее, правильной структуры подачи собственного материала было маловато, поэтому претензии повисают в воздухе.
Для того, чтобы плодотворно критиковать знаменитую прорывную работу о нациестроительстве в СССР, надо придумать собственную концепцию. Несколько разрозненных глав о том, как имперские эксперты вступили в союз с большевиками после Гражданской для внедрения в практику научных подходов к этнографии, не очень тянут на прорыв в изучении вопроса, поэтому собственно теоретическая часть показалась мне надуманной, некоей данью строгому научному оформлению академических работ, которая не только не помогает воспринимать материал автора, а даже, ожидаемо, мешает, так как уводит рассказчика от предмета и заставляет пикироваться по каким-то частностям. Долой обязаловку в академической прозе!
За пределами смазанного теоретического подхода перед нами открывается удивительный мир советских 20-х с его не менее удивительным продолжением в 30-х. Хирш хотела сказать нам, что Мартин ошибся, утверждая, что «большое отступление» после первой пятилетки произошло и в нациестроительстве. Нет, все иначе, это переход к новому этапу, когда вслед за Сталиным все стали считать, что консолидация мелких этносов в титульные произошла и теперь надо поддерживать именно их, воспевая советские культурные достижения (национальные по форме, социалистические по содержанию). Само по себе утверждение как утверждение, в чем-то даже просоветское какое-то, мол, принципиальные они по содержанию, надо просто присмотреться. Но, как уже упомянуто, материал для подкрепления этого утверждения выбран любопытный, но с самим утверждением связанный крайне косвенно – как ученые и режим выстраивали отношения, как эксперты стали необходимы власти и как эксперты редактировали заключения для соответствия пожеланиям заказчика.
Об экспертах, о их роли в контактах с Лениным и Сталиным, об оформлении музеев, об этнографических экспедициях и о вершине усилий власти и ученых – переписях – Хирш пишет ловко, деловито и энергично. Тут нет ни претензий, ни вопросов, тут перед тобой открывается обычный необычный мир жизни, когда люди, которые так похожи на нас, живут и делают что-то удивительное (не всегда со знаком плюс) в стремительно меняющихся условиях. Метафора калейдоскопа и стремительного танца а-ля Матисс явно относится к моим любимым, и здесь она опять уместна – за 10-15 лет, ну пусть 20 лет стороны прошли в своем танце все стадии от холодного взаимного интереса до подчинения и точечных репрессий. Ленин и Ольденбург, начинавшие эту историю, старые знакомцы из 1890-х, вновь встретившиеся в совершенно иных обстоятельствах (от научного кружка, в котором состоял тот самый Александр Ульянов и Ольденбург, до непременного секретаря Академии и главы Совнаркома). Первые эксперименты с определением очень точного, наиточнейшего перечня народов СССР. Сталинские правки в список. Перепись 1937-го, некорректная. Вторая Вторая перепись 1939-го, уже с верным списком, утвержденным где надо. В промежутках мрачноватые споры о границах с перекидыванием областей из одной республики в другую. Если о спорах между БССР, УССР и РСФСР я знал (очередные последствия того определения границ мы как раз интенсивно переживаем), то о роли центральных органов, ученых и местных элит при межевании в Средней Азии я прочитал детально впервые. О таджикских националистах, вчера бывших узбекскими националистами, о роли политического аспекта при межевании, об умении говорить на советском языке, чтобы власть не могла устоять перед доводами, изложенными в ее же эпитетах.
Кстати, об этом умении говорить на нужном власти языке. Актуальная вставка – до чего же этот процесс похож на современный! Слова-маркеры (как современное в/на, например), которые используются для получения доступа к ресурсам. Тогда это были национальные термины в рамках революционной логики, теперь это умение говорить на языке грантов для получения грантов. Любопытно, что на Западе к чистке в академии за нежелание менять язык науки в угоду текущему дискурсу пришли примерно за такое же количество лет, что и в СССР. Страшно экстраполировать дальше, некоторых этнографов расстреляли в конце 30-х за неверное проведение первой Второй переписи.
В книге много Ленинграда. Заметно, что переезд органов власти в Москву не привел к быстрым переменам в раскладе сил – узловые точки науки по-прежнему оставались в городе на Неве. Ленинградская модель этнографической выставки отрабатывалась и тиражировалась отсюда, комиссии этнографов работали здесь, так что страницы книги полны отсылками к городу трех революций. И только во второй половине 30-х, после переезда и слияния Академии наук, Ленинград перестает быть местом, где все или почти все происходит.
Вишенка на торте, настоящее украшение книги – главы о работе с немцами в 20-е и борьбе с фашистскими расовыми теориями. С одной стороны, приходилось работать с теми, кто был готов с нами работать (вот как тут не сравнить с текущей ситуацией?), с другой стороны, немецкие ученые не стали исчадиями ада в 1933, они и до этого были довольно откровенны в проявлении своей демонической сущности. Потеряв колониальную империю, немцы пытались получить возможность ездить в экспедиции в отдаленные районы СССР со своими черепоизмерялками. Сначала наши мирились с их странностями, соглашаясь на обмен научными знаниями и технологиями, но чем дальше, тем сильнее их риторика советскую сторону напрягала. Надо отметить, что кричать «волки!» наши начали в самом начале 30-х, до прихода Гитлера к власти. При этом Хирш подтверждает, что немецкая наука фашизировалась до 1933-го и опасения советской стороны выглядят вполне рациональными. Итак, немцы едут в совместную экспедицию, смотрят на конституцию коренных народов, а потом публикуют работы о расовом вырождении и неминуемом вымирании какого-нибудь советского народа. Советская власть довольно быстро среагировала на угрозу своим базовым постулатам о принципиальном равенстве людей (развитие зависит не от биологических различий, а от социально-экономических условий), понуждая ученых писать работы об ошибочности расовых теорий.
Финальная глава была грустнее, война замаячила на горизонте и власти стали действовать жестче, подозревая в диаспорах немцев, поляков и корейцев возможных союзников будущих врагов. Политическая необходимость который раз взяла верх над декларируемыми принципами, и паспортная система подавила личную самоидентификацию по национальному вопросу. Есть в этом что-то неизбывное, в том или ином виде подобное повторялось уже не один раз.

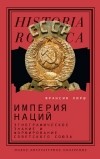
Комментариев пока нет — ваш может стать первым
Поделитесь мнением с другими читателями!