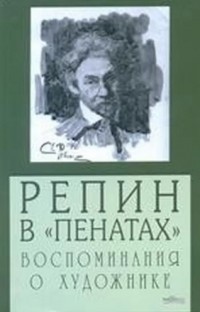Больше рецензий
24 января 2024 г. 11:20
28
4 Одной левой
Рецензия"Он был титаном как художник и глубоко человечным как человек. Слава не сделала его мельче".
"Пенаты", что в посёлке Репино города Санкт-Петербурга - удивительное место. Возрождённый из пепла феникс, этот дом и по сей день продолжает оказывать магическое воздействие на его посетителей. И пусть никто не бьёт в гонг за музейной лентой, никто не крутит знаменитый стол в столовой, дух тех самых "репинских сред" витает в воздухе дачи. Неудивительно, что в таком месте обязательно хочется приобщиться к "репинскому". И вот таким образом в моей библиотеке оказался сборник воспоминаний современников о жизни художника в "Пенатах".
Никогда до этого не читал подобного рода компиляции. Первое же впечатление - "эффект Расёмона". Вроде все 20-30 современников говорят об одном и том же Репине, а образ художника переливается как 3d картинка. Вот пишут его ученики, и у них всё об искусстве, о призвании творца, о гении Ильи Ефимовича. И даже если какие-то недостатки отмечаются, то всё мельком и как несущественное. Вот коллекционеры, и у них уже на первом плане деньги, насколько Репин и окружавшая его родня умели вести дела; нам демонстрируют "грязное бельишко". Вот женщины, вспоминают больше про то, насколько удавались Илье Ефимовичу ... женские портреты, да ещё какой чудачкой была его вторая (гражданская?) жена. Отдельно тут отличилась Щепкина-Куперник, которая вроде как вспоминала Репина, но de facto рассказала про своих знаменитых подруг.
Это всё о том, что дневники, да мемуары - крайне ненадежный исторический источник и полагаться на него надо крайне осторожно. Тут обязательно требуется понимание контекста, в котором создаются такого рода записи, анализ личности самого вспоминающего, сопоставление с отзывами других современников и так далее и так далее.
И тем не менее, сверяя впечатления разных людей о Репине, можно прийти к тому, что этот человек был истинным служителем искусства, горел творчеством. И когда жизнь поставила Илью Ефимовича в сложные условия (атрофировалась правая, рабочая, рука), он, вместо с того, чтобы сдаться и удалиться на покой почивать на лаврах, в буквальном смысле управлялся одной левой и творил, творил. В нём был этот чудесный огонь "хочу всё знать", он живо интересовался разными вопросами и научным прогрессом. Он с сочувствием относился к борьбе против монархии и поддерживал борьбу женщин за свои права. Интересный факт: в Академию художеств женщинам разрешили поступать только в 1891 года, но и после этого немало профессоров, даже таких добрейших как Куинджи, отказывались принимать к себе на курс учениц. У Репина же в этом плане не было никаких предубеждений.
И это всё живое и пытливое уживалось в художнике с неприятием радикального новаторства: футуристы, кубисты и прочие "-исты" вызывали в Репине отторжение своими попытками навертеть и надумать, сделать сложно и вычурно на ровном месте.
Конечно, Репин был неидеальным, со своими - всё же мелкими - недостатками и своими - всё же объяснимыми - ограничениями. Но, ещё раз, искусству он был предан безусловно, а своё предназначение видел в том, чтобы своей живописью вдохновлять и приободрять людей. Это не может не вызывать моего личного расположения.
Отдельно хочу отметить мелкие "говорящие" детали той эпохи. Во-первых, обращает на себя внимание то, как многие посетители"Пенат" ещё в пору Российской империи постоянно подчеркивают, что Куоккала (нынешний поселок Репино города федерального значения Санкт-Петербург) - это не Россия. Вот 1915 год, Финляндия на военном положении. Чтобы туда попасть, нужен заграничный паспорт; это при переезде-то из одной части империи в другую! Гости Ильи Ефимовича из Петербурга при этом постоянно забывают документы, задерживаются военными в Белоострове и в качестве пропуска используют свои этюды да сакраментальное " мы к Репину за советом".
А вот уже 20-е годы, советская делегация в гостях у Репиных в независимой Финляндии. Выходят к балтийскому берегу на пляж: туда доносятся звуки колоколов Кронштадтского собора, там видны огни Ленинграда.И вот оно, недружелюбное Советскому Союзу государство, в часе езды от колыбели трёх революций. Почему-то именно в привязке к Репину, "Пенатам" и Куоккале начинаешь чётко понимать причины советско-финской войны.
Во-вторых, читая воспоминания советских гостей художника, обращаешь внимание на то, как Репин не переносил новой русской орфографии. И это не рисовка Ильи Ефимовича, не желание противостоять большевистским реформам. Репин знал, что переход на новую орфографию рассматривался ещё в царской России, а первый приказ о реализации реформы был принят Временным Правительством. Тут другое, тут реальное, почти физическое страдание грамотного человека, всю жизнь писавшего и читавшего слова по-другому. Кстати, видимо, реформа русской орфографии прошла так успешно и так относительно безболезненно именно потому, что подавляющее большинство жителей Российской империи было безграмотным; им было всё равно, какие правила орфографии впервые учить за школьной скамьёй.