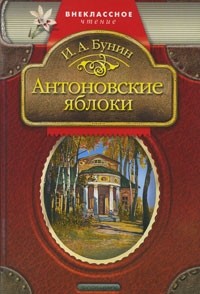Больше рецензий
5 февраля 2024 г. 22:08
56
0 Отходная молитва мелкопоместному дворянству
РецензияКлассическая русская культура в значительной степени создана дворянами, имевшими за спиной тыл в виде поместий, связанных с производительным сельским хозяйством. Классическая русская культура в значительной степени — это культура дворянской усадьбы, где течёт тихая размеренная жизнь, где встречаются лучшие люди округи, где ведутся разговоры, где рождаются дети и уходят в небытие прежние, отжившие своё поколения. Конечно, часто действие переносится в Петербург или Москву, но за спиной у героев незыблемым островом маячит оно — поместье, где расположен питательный исток личности, откуда шлют деньги, куда можно вернуться в случае жизненных штормов, которое, наконец, можно заложить, если прожился или проигрался. Сколько наших писателей-классиков, непревзойдённых реалистов создали литературные шедевры, черпая вдохновение из усадебного быта мелкопоместных дворян!
Иван Бунин — это тоже классик, тоже реалист, но опоздавший родиться. И потому он застал провинциальное мелкопоместное дворянство на излёте, когда этот быт, эти недавно казавшиеся незыблемыми устои уже разрушались и превращались в пустую оболочку, по-прежнему привлекательную, но лишённую живого содержания. Я не марксист, но кратко укажу на экономический базис этого процесса: мелкопоместное дворянство подкосили реформы второй половины XIX века, и прежде всего — отмена крепостного права. Не хочется впадать в публицистическую пошлость, но всё же отмечу схожесть нашего классического периода с классической же Грецией: и там, и здесь водворение здания классического духа оказалось возможным благодаря разделению людей на творцов и рабов. Не все дворяне оказались творцами, но именно труд «рабов» сделал возможным появление прослойки людей, способных посвятить всех себя музам.
А потом этот хозяйственный базис из-под русской дворянской усадьбы вынули. Да, остались здания, остались земли, но чтобы в новых условиях обеспечить себе безбедную жизнь, приходилось приспосабливаться к новым условиям и становиться чем-то вроде современных фермеров, использующих наёмный труд крестьян, или как минимум земельными латифундистами, получающими прибыль от сдачи земель в аренду тем, кто реально мог на ней работать. О, как много дворян оказались неспособными на эти, в сущности, несложные бизнес-операции! И мелкопоместное дворянство начало умирать, как это чудесно показано, например, в рассказе «Суходол»: сначала беднеть, потом маргинализироваться, потом смешиваться, в том числе путём браков, с окрестным населением и терять себя. Бунин как писатель-реалист и стал художником этой потери себя, растворения дворян среди других классов: кто-то подавался в предприниматели, купцы или чиновники, кто-то омещанивался, кто-то — омужичивался, становясь неотличимым от тех самых мужиков, перед кем лебезили всякие там социал-демократы и народники, полагавшие, что дай этому мужику волю и власть, и всё наладится.
Но Бунин не лебезил перед мужиком, не пел ему дифирамбов. Если не верите, почитайте его произведения, посвящённые простому люду: они весьма жёсткие, по современным меркам — почти чернушные, ибо мужик предстаёт у Бунина эдаким расхристанным варваром, бродящим по ледяной пустыне с топором за пазухой. Ленивым, лукавым и жестоким. Вот, к примеру, цитата из повести «Деревня»: «Народ! Сквернословы, лентяи, лгуны, да такие бесстыжие, что ни единая душа друг другу не верит! Заметь — не нам, а друг другу!» А вот мелкопоместные дворяне — это для Бунина предмет тоскливой жалости, ностальгического эстетизма, прозорливого алармизма, что объясняется, видимо, собственным происхождением писателя из этой среды.
Впрочем, наше предисловие затянулось, ведь мы говорим здесь об «Антоновских яблоках» — рассказе, в котором все подобные мотивы и настроения слились в единый клубок и явили свою подлинную художественную силу и остроту. Здесь практически нет сюжета; весь рассказ — это вязь воспоминаний детства, случайных впечатлений, эмоций, картин, красок, событий, ситуаций, запахов... Яблоки — средоточие пёстрых цветов и осенних ароматов, они идут как бы сквозь жизнь, они наполняют собой пространство и даже время, поскольку речь идёт о памяти взрослого мужчины о детстве, а память — это всегда борьба со временем, разъедающем прошлое, как разъедают его экономика и политика, ориентирующиеся на пока нерождённое, но вечно манящее будущее, непременно светлое, ведь как же иначе может быть в обществе, приученном к прогрессизму? И в тоже время на техническом уровне яблоки — это структурный элемент повествования, который своей вещной явленностью и предметной конкретностью связывает воедино отрывочные впечатления героя и разновременные фрагменты его повествования.
Вот почему в «Антоновских яблоках» нет сюжета как выстроенной из прошлого в будущее последовательности событий: нет здесь никакого будущего, только обрывочное прошлое, поддерживаемое в своей искусственной целостности тем самым, удерживаемым в памяти при помощи технических приспособлений прошлым. Кто сказал, что прустовское пирожное Мадлен — это первый случай использования материального предмета для пробуждения художественной памяти? Тот, кто это сказал, не читал Бунина.
Магия прошлого, в виде томительных воспоминаний живущая в настоящем, чувствуется в сценах охоты, и даже не самой охоты, а того, что её окружало: вот ты проспал и охотники уехали, а ты коротаешь день в очередной усадьбе и неизбежно заглядываешь в библиотеку, а там — истрепавшиеся тома екатерининских времён, в которых — неизбежное вольтерьянство с его неизбежным наивным оптимизмом разума и тем самым, упомянутым выше прогрессизмом. Ну и где теперь этот разум? Где теперь этот прогресс? К чему он привёл дворян, кои, фрондёрствуя, продвигали наивную веру в облагороженное будущее, секуляризм, свободомыслие, разум?
К чему вело вот это всё, если не к революции? Самыми разными путями — от вольтерьянства до народничества, от Сенатской площади до Февраля и Октября? Бунин писал свой рассказ в 1900 году, когда пушки революций ещё не гремели, а колокола не били набат, но он уже тогда чувствовал, что всему знакомому и любимому, даже запаху антоновских яблок, скоро придёт конец. И не останется ему ничего больше, кроме как мыкаться по холодным и сырым заграницам, выковыривая из памяти самые последние, самые потаённые воспоминания своего дворянского, мелкопоместного, не угаданного в своей вящей прелести усадебного детства, чтобы излить их на бумагу, найдя в этом исчезнувшем, но по прежнему пахнущем яблоками быте источник возбуждения аполлоновских приспешниц — муз. Там, где-то там, в уничтоженном прошлом останется источник вдохновения, а вовсе не в этих западных царствах воплощённой просвещенческой разумности. Ведь не пахнет в этих парижах антоновскими яблоками. Не пахнет.