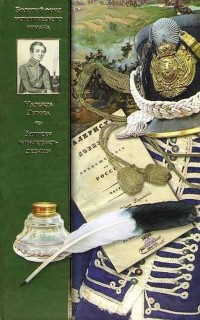Больше рецензий
7 марта 2015 г. 23:26
97
4
РецензияАх, что за прелесть!
Не ищите глубокой или высокой истины, просто насладитесь. Легкий, стремительный слог, живость описаний, юмор, радость жизни – сколь много их в этих Записках.
По сути своей Записки – отрывочные автобиографические заметки, в которых более-менее связно рассказано только о детстве, остальная же часть – лишь о том, что привлекло автора, затронуло каким-то образом, показалось важным.
Дурову, кажется, действительно вела судьба: нелюбовь матери, воспитание до 4 лет гусаром, причем воспитание было соответствующим:
«Астахов по целым дням носил меня на руках, ходил со мною в эскадронную конюшню, сажал на лошадей, давал играть пистолетом, махал саблею, … вечером он приносил меня к музыкантам, игравшим пред зарею разные штучки»
И вдруг после этого приволья жестокая муштра матери, которая, пытаясь воспитать из дьяволенка (к слову сказать, боявшегося матери) благовоспитанную девицу. Именно эта материнская жесткость, граничащая с жестокостью (сколько было бы простора для психологов разбирать эту нелюбовь женщины к первой и самой свободолюбивой дочери своей!) становится причиной ее желания уйти от судьбы своего пола. Об этом говорит и сама Дурова.
Недаром за год в Малороссии, без материнского надзора, с людьми, которые ее темперамент не сковывали, позволяли гулять, быть резвым, любопытным ребенком, ее «воинские мечты начинали понемногу изглаживаться в уме» и возвращаются лишь только после водворения вновь под неусыпный материнский надзор.
Сковывая свободу дочери, мать одновременно представляла ей «в самом безотрадном виде участь женщины», женщина, по ее мнению, «самое несчастное, самое ничтожное и самое презренное творение в свете». Какое впечатление производят такие слова на свободолюбивую девочку, особенно если она родилась, можно сказать, под звуки полкового марша, да к тому же обладает сильным характером и завидной волей?
Эти характер и воля помогают Дуровой не только страдать от своей жизни, не только принять решение: стать воином, но и стремиться к нему, добиться желаемого:
«я взяла мне принадлежащее, мою свободу: свободу! Драгоценный дар неба, неотъемлемо принадлежащий каждому человеку!»
Дурова удивительно искренна в своих заметках. Порой описывает себя в таких ситуациях, про которые можно сказать: ах, если такое случилось с тобой, то лучше бы и молчать, похоронить это происшествие. Это и то, как умер ее любимый жеребец Алкид, и ее первое участие в боевых действиях, где она по неопытности ходила в атаку с каждым эскадроном, путая строй и раздражая командиров, и много других нелепиц.
Некоторые происшествия жизни ее кажутся вовсе сказочными: в одной из первых же своих атак она спасает офицера и отдает ему своего коня Алкида, чтобы раненный добрался до своего полка. Конник в бою без лошади! Печальная картина! Мало того, что был, на тот еще момент солдат Соколов, обруган своими командирами, так и лошадь не вернули: по счастливой случайности лишь удалось ему выкупить ее, но уже без всего имущества, что на Алкиде было. Однако ж именно за этот поступок сам царь вручает Дуровой-Соколову, нет уже Александрову, Георгиевский крест.
Записки разрознены, «лоскутки» - называет Дурова их в переписке с Пушкиным. Но эти лоскутки дают живое представление о событиях полковой жизни, о балах и других увеселениях, о тяжести переходов, холоде и голоде. Так что зарисовочки эти при желании легко превращаются в довольно связное представление о полковой жизни.
Некоторые части записок становятся более понятными после прочтения дополнений. От записок ощущение, что до первого военного похода, Дурова только и делала, что привыкала к солдатским сапогам, да училась вертеть упражнениям с оружием. А вот в Дополнениях:
«унтер-офицер мой, видя, что я всякое поручение исполняю скоро, охотно и с удовольственным видом, … как только надобно было куда послать, сейчас посылает меня».
Вот, уже оказывается не только постигала воинскую науку, но и поручения выполняла, службу несла.
В записках множество восклицательных знаков, передающих восторги автора, её возбуждение, радость. Ах, эти восклицательные знаки! По-моему ни в одной еще книге не встречала я их в таком количестве! Но здесь они так уместны, так передают характер автора Записок, которой, оказывается, многое женское не чуждо, в первую очередь чувствительность, что ни грамма раздражения на эти восклицания, только улыбка, восхищение умением глубоко чувствовать и переживать происходящее. Одновременно, частенько шкала восторженности зашкаливает (особенно в местах, где автор пишет о царе Александре). Да, я циник и не проникаюсь так глубоко чувствами как Дурова, поэтому ее восторженные восхваления порой не то чтобы раздражают, но уже близко к этому.
У Дуровой потрясающее, на мой взгляд, чувство прекрасного. Не только нечто величественное, как горы или водопады, привлекает ее внимание, она умеет наслаждаться просто полями, лесами, восходами и туманами. Она ценит живопись,
«что значат камни в сравнении с прекрасным произведением кисти, в котором дышит жизнь!»
(речь о драгоценных камнях, если что)
по собственному признанию не разбирается в музыке, но любит ее.
Благодаря этому в записках очень много описаний природы мест, где Дурова побывала, и ее впечатления о культурных мероприятиях. Много в книге о животных, причем с любовью и нежностью.
Автобиография Дуровой, имея столь же живой и ясный стиль изложения как и Записки, несет совершенно другую эмоциональную окраску. Если образно, то записки – движение, автобиография – покой.
Краткое это жизнеописание, собственно, автобиографией назвать сложно: в ней буквально в нескольких словах о жизни после отставки из армии и хлопотах по поводу издания записок. Из малого труда этого напрашивается грустный вывод: бездеятельно, скучно жилось Дуровой в отставке. Жизнь в провинции:
«дни мои потекли мирно и единообразно, с утра до вечера я или ездил верхом или ходил пешком по нашим картинным местам, исполненным диких красот северной природы. Такая усиленная деятельность нисколько не вредила мне, напротив, была даже благодетельна, потому что, вставая в три часа утра, седлая сам свою лошадь, летая на ней по горам, долам и лесам или пешком взбираясь на крутизны, спускаясь в овраги, купаясь в реках и речках, я не имел времени обращаться мыслями к минувшему (увы! горе мне!), невозвратно минувшему».
На эту тоску по прошлому накладывается и горе от неудач при публикации записок. От этого автобиографию читать невыносимо грустно.
Письма Дуровой в большинстве своем адресованы Пушкину и касаются издания Записок. В письмах та же искренность, прямота, нетерпеливость, присущие характеру Дуровой. Даже чувство юмора и ирония не покинули ее, вот что она пишет Пушкину, находясь в Петербурге:
«Видеться нам, как замечаю, очень затруднительно: я не имею средств, вы — времени».
Несмотря на то, что главная тема писем - злоключения Записок, из текстов явственно проступает невесёлость жизни Дуровой.
Из того, о чем она не пишет ни в Записках, на в автобиографии: нежелание пользоваться женским именем:
«Имя, которым вы назвали меня, милостивый государь Александр Сергеевич, в вашем предисловии, не дает мне покоя! Нет ли средства помочь этому горю?»
Как видим, Пушкин убедил Надежду Андреевну прославить и свое женское имя.

О письмах к Дуровой можно сказать кратко: добавляют штрихи к портрету жизни. Лишь не могу не процитировать часть одного письма Пушкина младшему брату Дуровой:
«Прощайте, будьте счастливы и дай бог вам разбогатеть с легкой ручки храброго Александрова, которую ручку прошу за меня поцеловать».
Как чудесно, какая нежная ирония! Пишет о Дуровой как о мужчине (выше называет ее братом: "ваш братец писал мне") и тут же: поцеловать его легкую ручку! Ну прелесть же!
Не относится к рецензии, но интересно, что нигде в свои записях Дурова не упоминает о том, что ей видимо больно и неприятно вспоминать: замужество и рождение сына, эта сторона жизни покрыта завесой. И хотя от мужа Дурова ушла, забрав с собой ребенка, о нем она тоже нигде не пишет. Только из других источников известно, что она ходатайствовала перед Александром 1, чтобы мальчика отдали в императорский военно-сиротский дом в Петербурге
Виват боевым подругам из Общества здорового образа жизни имени Буковски Meredith , Wender и Anais-Anais