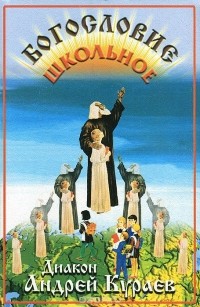Больше рецензий
22 сентября 2016 г. 09:16
154
2.5
РецензияНесмотря на такое название, сборник статей за авторством теперешнего протодиакона (а шестнадцать лет назад, когда было издано третье издание этой книги, — диакона) Андрея Кураева одиозна только на первый взгляд, да и вообще — лишь собственным посылом, неприемлемым с атеистической точки зрения. Но я никогда не относил себя к атеистам хотя бы по мироощущению, и поэтому, увидев одиноко забытую кем-то на подоконнике книгу, бегло ознакомившись с содержанием, из любопытства взял её на пристрел.
Кураев часто оставляет впечатление человека умного и рассудительного. Последовательно и вдумчиво излагая свои мысли, он это подтверждает и на письме. Весьма неплохой православный популяризатор и, думаю, вполне компетентный учёный-богослов. Однако тут кроется большущее «но»: вся его деятельность нацелена на религиозное восприятие действительности, которая априори лежит вне плоскости адекватного восприятия человеком. Когда последний не умеет восторгаться рациональным устройством мира через непосредственное взаимодействие или социальную интеракцию, он приходит к восторгу мистикой, руководствуясь духовными переживаниями, — не выходя за рамки собственной сущности, но подчиняясь ей. Чтобы быть православным христианином, нужно обладать непоколебимой верой в то, что касается церковных догматов. С другой стороны, чтобы служить Богу, необходимо только следовать заветам, то есть, быть судимым по делам, и тут складывается парадоксальная ситуация: любой завалящий атеист автоматически становится христианином, хочет он того или нет. Здесь находят друг друга сонмы противоречий, от вмешивания церкви в светскую жизнь до того самого вопроса, возможна ли мораль вне религии. Естественно, что неверующие не разделяют духовные переживания верующих, и проводить знак равенства означает усугублять противоречия.
Как стоящий где-то посередине между теми и теми, выскажусь в таком, возможно, сильно спорном, ключе: человек не может жить без веры во что-либо. Это вера, что завтра ты проснёшься и будешь жить дальше. Это вера, что всё делаемое тобой — правильно. Это вера в существование людей, их взаимоотношения, их прошлое, настоящее и будущее и возможность существовать как угодно, где угодно и сколько угодно. Это вера в миллионы вещей, как реальных и осязаемых, так и космических масштабов умопостроений или сводящихся к скромным, индивидуальным фантазиям. Каждый верен самому себе, в чём бы он ни был убеждён, и поэтому способен двигаться вперёд. И Кураев так же: он не просто верен, он упёрт в своей вере и в силу этой веры использует все свои ресурсы, чтобы показать почему. Вот как он описывает своё преображение в первой статье «Паломничество к Вере»:
Для меня поворотным мгновением была одна немая встреча в Троице-Сергиевой Лавре. В тот раз — а это было где-то в начале 82-го года — я оказался там ещё в качестве студента кафедры атеизма и комсомольского активиста. Надо было сопровождать группу венгерских студентов, приехавших по обмену в наш МГУ.
Службы я не запомнил, архитектурой и историей интересовался мало. Но когда мы выходили из Троицкого собора, произошло «обыкновенное чудо». Впереди меня выходил какой-то юноша (не из нашей группки). И вот, когда до порога оставалось два шага, он вдруг резко повернулся и встал ко мне лицом. Смотрел-то он не на меня. Он смотрел на иконы в глубине храма, чтобы последний раз перекреститься и взять благословение перед выходом. Но между иконами и им в этот раз оказался я. И я впервые близко увидел глаза верующего человека... Нет, в них не было ничего «таинственного» или «загадочно-экспрессивного» (такое выражение своим глазам почему-то пытаются придавать актёры, играющие в фильмах священников). Это были просто светлые, осмысленные и живущие глаза. А меня пронзила мысль — этот человек, мой сверстник, почему он здесь у себя дома, а я — в русском монастыре хожу как иностранец? Почему этот парень, которого в школе учили тому же, чему и меня — знает что-то такое, что для меня (несмотря на все мои «религиоведческие штудии») совершенно закрыто? Ведь он знает всё то, чему учили и меня, и при этом он — здесь! И значит — чтобы стать верующим, надо знать такое, чего не знают атеисты?!»
Вообще-то, для этого надо просто иметь эволюционную предрасположенность, о которой во всех подробностях когда-нибудь расскажет нейротеология. Я не ставлю перед собой цели раскрывать (не совсем по теме) или трактовать (не этично) в этом отзыве, что же всё-таки испытал Кураев, или каким-то образом обличать (не корректно). После цитированного эпизода мне очевидно то самое мистическое «озарение», круто изменившее его жизнь, раскрыв призвание. Призвание, которое отнюдь не оправдывает всю ту апологетику православной веры, которая обнаруживается в книге. Да, она разумна и логична, но — внутри самой себя, не имеющая надёжной опоры во внешнем по отношению к ней миру. Поворот от сущей бесполезицы, «научного атеизма» (зачем растрачивать интеллектуальные ресурсы на заведомо бредовую деятельность?) к христианскому мировоззрению как единственного пути самосовершенствования и самопознания с его измышлениями, потому что как-то их надо оправдать — это ли радость современного человека? Возвращаясь к цитате: «Ведь он знает всё то, чему учили и меня, и при этом он — здесь!» То есть, по ту сторону реки, в другом лагере, на другом конце вселенной. Виной всему такая разная вера.
После прочтения половины книги в очередной раз вижу бездонную пропасть между людьми. И в очередной раз понимаю, что у каждого свой путь. Кто-то, оказываясь не на своей стороне, молча вьёт верёвочный мостик. Другой, на своей, поднимает рупор и пытается докричаться. Считая свой правильным, я его не навязываю, но и не принимаю противоположный. Без веры во что-то жить нельзя: так мы устроены. И снова думаю о том, что с чем несовместимо и почему мы друг друга не понимаем, а иногда и не любим. Нельзя закупориваться в своей вере: можно её обсуждать, можно её критиковать, можно её совершенствовать. Кураев, кстати, относительно открыт, что, в целом, играет ему на руку. Он сравнивает религии (конечно, в свою пользу), как-то превратно толкует понятие культуры (его метафора с жемчужиной заставляет реагировать: «Э-э-э, шта-а-а?»), обсуждает проблемы педагогики (на рубеже веков было плачевненько, да), пишет обстоятельную рецензию на «Титаник» (внезапно) и разъясняет христианскую подоплёку «Хроник Нарнии» (ну, тут сам бог велел). В отличие от него, на многих других верующих (точнее, верунов), хочется смотреть с сожалением или вовсе не смотреть, прикрываясь фейспалмом.
Полезность, на мой взгляд, христианства — борьба с сектами и совсем уж идиотическими языческими и другими религиозными движениями. Это как прослойка между больными и (или) глупыми людьми, способными навредить всему обществу, и тем самым обществом, которому следует жить, радоваться жизни и развиваться. Вскрывая проблему худшей ипостаси толерантности в светском обществе, Кураев в целом прав. Но не в частностях. В школе (тут соглашусь) хорошо бы чуть более подробно излагать сущность религий. Конечно, не отдавать на откуп церковникам (тут не соглашусь). Мы обязаны воспитывать своих детей, оглядываясь на прошлое, но не должны делать прошлое настоящим или, тем более, будущим. Каждому воздастся по делам его. А понимать это можно по-разному.