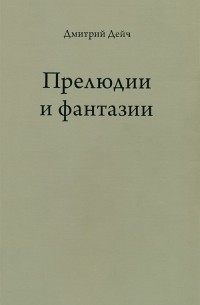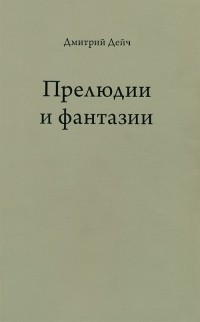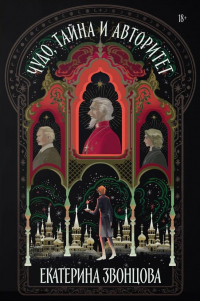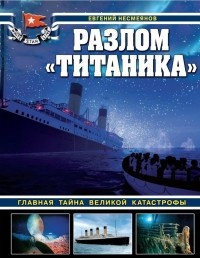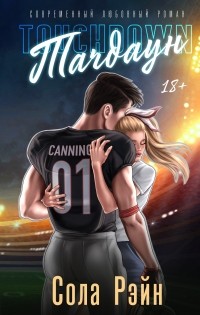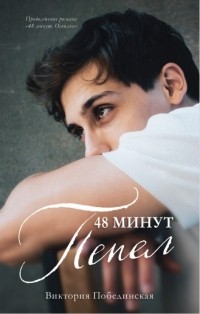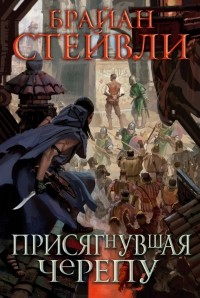Прелюдии и фантазии
Дмитрий Дейч
| Издательство: | CheBuk |
Лучшая рецензия на книгу
12 сентября 2012 г. 13:58
240
5
Прочел за несколько дней, фактически не поднимая головы, не выглядывая наружу. Давненько не было у меня такого опыта. В смысле - сто лет книга не затягивала меня настолько, чтобы позабыть все дела, пока не перевернул последнюю страницу. И тут дело не в увлекательных сюжетах или каком-то стремительном повествовании - наоборот: медленное внимательное чтение. Когда листал книжку на БуФесте, удивила разностилица, разноголосица. Казалось странным, что все это написал один человек. Принес домой, открыл, и утонул.
Сейчас попробую объяснить в чем тут фишка. Вот я ищу кусочки, которые мне особенно понравились, чтобы процитировать, и вдруг понимаю, что почти любой фрагмент этой книги можно опубликовать в виде цитаты. Притом, каждая такая цитата будет выглядеть как отдельное, совершенное,…
Год издания: 2012
Язык: Русский
Новая книга Дмитрия Дейча объединяет написанное за последние десять лет. Рассказы, новеллы, притчи, сказки и эссе не исчерпывают ее жанрового разнообразия. «Зиму в Тель-Авиве» можно
было бы назвать опытом лаконичного эпоса, а «Записки о пробуждении бодрствующих» — документальным путеводителем по миру сновидений. В цикл «Прелюдии и фантазии» вошли тексты,
с трудом поддающиеся жанровой идентификации: объединяет их то, что все они написаны по мотивам музыкальных произведений. Авторский сборник «Игрушки» напоминает роман воспитания, переосмысленный в духе Монти Пайтон, а «Пространство Гриффита» следует традиции короткой прозы Кортасара, Шевийяра и Кальвино. Значительная часть текстов публикуется впервые.
Сказать, что проза Дмитрия Дейча разнообразна, было бы не совсем точно. Для начала – проза ли это? Возможно, ее стоило бы определить как стихопрозу? Или описание психоделического (онейрического, прежде всего) опыта? Современные притчи китайско-израильского происхождения?.. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ >
Ольга Балла
Преимущество Дейча
ЧАСТНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ, четверг, 21 марта 2013 года, 12.45
Одно из самых популярных суждений о Дмитрии Дейче – то, что он ускользает от определений. По крайней мере, от жанровых - типовых, заранее заготовленных. В этом смысле высказывался о нём ещё Макс Фрай – знающий большой толк и в своевольных текстах, и в нетипичных авторах: жанровому, мол, определению не поддаётся.
Не похожий ни на кого, Дейч умеет казаться похожим на многое, едва ли на всё сразу. Это способно вызывать протест у читателей – и простодушных, и не очень. «Удивительная всё-таки вещь - жанр подражаний! – пишет раздражённый читатель на сайте, посвящённом фантастической литературе (Дейча, значит, относят и по этому ведомству). - Ни единой собственной мысли, ничего своего. А если учесть, что исходники, которым подражает Дмитрий Дейч, прошли многовековой отбор, то в поделках Дейча нет и мыслей оригинала». «Как комиксы неплохо», - снисходительно вторит ему не менее раздражённая читательница на другом сайте, не усмотрев в отрывочном повествовании Дейча о Гриффите связующей логики. И тут же задаётся вопросом: «писатель ли вообще Дмитрий Дейч?» Но вот развивает этот дискурс – с теми же интонациями – и читатель куда как искушённый: «на-гора в лучшем случае выходят, - пишет Максим Немцов, - столь излюбленные нынешним грамотным народом сюрреалистичненькие притчи без особой морали, ибо с моралью нынче тоже довольно туго — в системе координат, где неизвестных и переменных больше, чем символов на клавиатуре».
Сказать, что проза Дмитрия Дейча разнообразна, было бы не совсем точно. Для начала – проза ли это? Возможно, ее стоило бы определить как стихопрозу? Или описание психоделического (онейрического, прежде всего) опыта? Современные притчи китайско-израильского происхождения?
Ясно, что спектр широк. От сюрреалистических зарисовок до этакой кидалт-литературы, повествующей о современных одиноких и не самых успешных жителях большого Тель-Авива. От хармсовских баек до философских эссе. От стилизации под средневековую куртуазную повесть и рыцарский роман до современной «странной» сказки. От сатиры до байки. От европейских афоризмов и басен до дзэнских, как бы написанных одним движением кисти, миниатюр. От, как уже говорилось, Израиля, России (СССР скорее, ибо тут детские воспоминания) и до Китая, областей сна, границ опыта, чего-то трудно даже определимого…Да, в типовые культурные ниши он не слишком помещается. Если писатель – тот, кто пишет художественные тексты да ещё и издаёт их, как же не признать Дейча писателем? - однако стоит помнить и о том, что у него самого такая классификация вызывает глубокую иронию. «А вот какой бы, - спросил его в одном из интервью Андрей Сен-Сеньков, - ты хотел вопрос задать писателю Дмитрию Дейчу после прочтения книги?» «Я бы, - отвечал он, - спросил его: «Дейч, с каких это пор ты - писатель?». И я даже знаю, что бы он, зараза, ответил…»
Понятно, что ирония – вещь защитная, дистанцирующая, маскирующая и вообще входит в стратегию ускользания. Но если всерьёз, то всё-таки – чем бы могли не устраивать такое определение автора – и нас? И почему, собственно, оно вызывает у него такой протест?
Теперь у нас есть возможность это понять: новая книга Дмитрия Дейча «Прелюдии и фантазии», как сказано в аннотации, объединяет (всё?) написанное им за последние десять лет. «Всё» здесь или не «всё» - во всяком случае, это ли не повод окинуть всю разность написанного общим взглядом, подумать, что может его объединять и что оно может для нас значить?
А значить – точно может, потому что волнует, будоражит. Расталкивает.
Сам Дейч объясняет себя так: «Первоначально, в архаичных, дописьменных обществах сказочником назывался тот, кто был способен не просто «рассказать историю», но при помощи рассказа сократить расстояние между сакральным и профанным — прежде всего для себя самого, внутри себя, — путем погружения в стихию текста. Так случилось, что в один прекрасный момент, хорошенько подумав, я определил свое занятие как занятие сказочника».
Да разве сказки – такие? Что бы на всё это Пропп сказал?
Архаические общества, скорее всего, ни в каком отношении не оперировали этой категорией – «себя», да ещё «погружающегося в стихию текста», - и уж тем более не полагали никакого «себя» важнее всего остального, прочего, внешнего. Но в данном случае это совершенно не существенно: важно, что автор именно так видит собственные задачи.
Говорит Дейч о себе и ещё кое-что принципиальное, - есть смысл прислушаться, если мы намерены его понять: «Для меня слово по природе своей — в большей степени звук, чем знак. Я многократно проговариваю, - признаётся он, - вслух все то, что ложится на бумагу, и хотел бы, чтобы чтение этих текстов было похоже на то, как на нас действует музыка, звучащая в чужом плеере, или случайная сцена в метро или парке, которая довольно быстро стирается из памяти, но остается в виде легкого послевкусия и на следующий день, и месяц спустя».
Ага. Вот слово «послевкусие», пожалуй, - вполне ключевое. И ещё – слово «случайный». Это мудрое слово.
Автору, похоже, надо, чтобы слово застало читателя врасплох, неподготовленным. И – не то чтобы въелось в его внутренние структуры (Дейч не агрессивен, напротив, он даёт читателю - и тексту - свободу), - но вступило с ними в симбиоз. Чтобы оно - не переставая быть мимолётным, предпочитая всем иным движениям – касание, - проникло в душевное пространство читателя и приступило к долгому, терпеливому его обживанию.
Дейч работает с обертонами; с культурным воздухом, в котором взаиморастворяются воздушные массы чрезвычайно – можно подумать, что и до несовместимости - разного состава.
На такие мысли наводит уже само обилие ассоциаций, которые вызывают его тексты, так и провоцируя выявить в них следы тех или иных культурных влияний. И они выявляются во множестве. Дейч, собственно, настолько не скрывает их, что даже наоборот, на каждом шагу на них намекает, прямо-таки дразнит ими интерпретаторов, тексты его кажутся (притворяются?) будто бы цитатами из чего-то уже известного, сновидениями о прочитанном – о больших, больших его объёмах. Правда (как это во сне и бывает) – почти цитатами, именно почти, с едва заметными, но решающими, уводящими в иные стороны различиями: так единственная гласная, проскальзывающая в названии «Переводов с катайского», ясно даёт понять, что речь идёт не о каком не о китайском – языке или мире, но о его преломленных отражениях.
«Дун Хайчуань позабыл своё имя, но угадывал имена незнакомцев.
Ма Сюэли правой рукой писал на дощечке, левой метал дротики. И слова складывались в стихи, дротики попадали в цель. Госпожа Средняя Ми слизывала тушь иероглифов и превращалась в написанное.
Однажды Ма Сюэли написал на дощечке Истинное Имя Неба, произнесённое Дун Хайчуанем. Госпожа Средняя Ми лизнула дощечку, отныне тех троих никто больше не видел».
То же самое происходит, когда Сократ – в совершенно платоновских интонациях – заговаривает вдруг не с Федоном, а с Федондом. Это как будто совсем чуть-чуть смещённая реальность, но едва заметное смещение меняет всю картину. Прежде всего – на уровне внутренних задач.
Дейча часто ставят в соответствие с иноязычными и инокультурными авторами: с Кортасаром (Андрей Сен-Сеньков), с Беккетом, «с традицией европейского минимализма, представленной сегодня в России переводами Франсиса Понжа, Жан-Мари Сиданера и Жан-Филлипа Туссена», с японскими средневековыми «кайданами» — рассказами о призраках и сверхъестественных явлениях, и даже с не-литературой – с такими текстами, которые не относятся к художественной литературе (а заняты более глубокими, чем она, пластами реальности и более существенными типами отношения к ней – это тексты религиозные и относящиеся к так называемым духовным практикам): с даосами и чань-буддистами, с «шаманскими преданиями Южной Америки и Китая» (это - Александр Чанцев, сам по себе энциклопедист-толкователь). Евгения Риц пишет, что «особая сухая четкость повествования» Дейча, «обилие деталей и авторская отстраненность заставляют вспомнить классика французского «нового романа» Алена Роб-Грийе». Читатели с книголюбских сайтов вспоминают Борхеса и называют автора – или то устройство, которое, предположительно, пишет вместо него - «электронным Андерсеном». Тот же Чанцев вспоминает в связи с Дейчем, с одной стороны, Кафку, с другой – Платона (чьи диалоги – точнее, русские их переводы - Дейч воспроизводит с высокой степенью точности).
Русских авторов в связи с Дейчем тоже вспоминают – хотя и не в первую очередь. Сопоставив его «малую, экспериментальную прозу» с французским «новым романом», с Аленом Роб-Грийе, Натали Саррот, Маргерит Дюрас, которым «свойственны лаконичность, фрагментарность, особая ритмизация прозы», Евгения Риц вспоминает затем и Сашу Соколова с «Между собакой и волком» (1976), а далее говорит: «По-русски так пишут Лена Элтанг и Марианна Гейде, Николай Байтов и Дмитрий Данилов (творческая манера последнего, по замечанию Юрия Буйды, также схожа со стилем Алена Роб-Грийе) — авторы, во всем остальном не похожие друг на друга».
Слово «экспериментальная», отдающее техничностью и условностью, я бы применительно к прозе Дейча заменила на слово «поисковая». (Черновик бытия? Нащупывание?) Если уж, опять же, искать соответствий и родства, такое родство я бы предположила у него с Андреем Левкиным – с его, тоже поисковой, нащупывающей прозой, в которой слова - не главное, но инструмент, ведущий к чему-то «засловесному».
Александр Чанцев - один из, пожалуй, лучших толкователей Дейча - называет его «поэтом» и сопоставляет с Андреем Сен-Сеньковым («его прозаические отрывки, как и проза Андрея Сен-Сенькова, ближе всего к prose poetry»). Говоря о прозе Дейча, он сомневается – «проза ли это? Возможно, ее стоило бы определить как стихопрозу? Или описание психоделического (онейрического, прежде всего) опыта?» Но вообще Чанцев осмысливает Дейча (и это кажется очень органичным!) во многом исходя не столько из литературы, из кинематографа, вспоминая в связи с ним фильм «Париж, я люблю тебя», братьев Коэнов, Альмодовара, Вуди Аллена, Джармуша, Куросаву и даже мультик о Симпсонах. Всё это - модели не столько обращения со словами и построения текстов, сколько отношения к жизни, в котором слово (тороплюсь сказать – взвешенное у Дейча на чувствительнейших весах, отшлифованное, как тончайшее стёклышко) занимает явно подчинённые позиции. Тем более, что «проза Дейча живет не совсем по законам традиционной словесности, в ней много музыки (и молчания), кинематографа, оптики сна и опыта…»
В таком перечислении культурная генеалогия Дейча выглядит не только разнообразной, но и эклектичной: в чём же, думаешь, её объединяющий принцип? или хоть совокупность таковых? И вдруг останавливаешься, поняв: да он(а) же в головах интерпретаторов. Проза Дейча – эдакое Роршахово пятно для берущихся её понять: выявляет именно то, что у каждого из них в голове (Господи, когда это не относилось к искусству вообще, как к таковому?!).
Нет, всё это упоминается и узнаётся не без оснований: за текстами, признаёт сам Дейч, стоят большие объёмы прочитанного. Он же, однако, при этом говорит: «Мне, сказочнику, абсолютно все равно, похож ли я на какого-нибудь известного (неизвестного) автора, на коллектив авторов или всех авторов, вместе взятых».
«Я <…>, - замечает он, - готов к тому, что текст будет совершенно непохож на меня (понимая при этом, что эта непохожесть – мнимая, что, проникая вглубь «сознания» текста, я сам становлюсь на него похожим). Единственным критерием «правильности» того, что я делаю, является внезапный сдвиг сознания во время работы с текстом, интуитивное понимание наших с ним отношений». Да, это похоже на духовную практику, по крайней мере, имеет в себе её черты, - тем более, что и сам автор охотно упоминает применительно к своим опытам с текстами «сакральное и профанное» - «сокращение расстояния» между ними.
«Я с глубочайшим уважением, - настаивает Дейч, - отношусь к канону и считаю себя продолжателем, а не подражателем». Это - в ответ на то, что-де, по словам «одного критика», сказки Дейча «пародируют все, что так или иначе может быть отнесено к сказке, легенде, притче, мифу». Идею пародирования Дейч решительно отвергает. Эти лёгкие, почти прозрачные тексты – всерьёз. Так, «многие из «катайских» миниатюр», по собственным словам автора, - «в прямом смысле полемика в отношении различных канонических текстов». Отнести это к литературной работе - или уже к философской, а то и прямо к религиозной?
Вот и Чанцев говорит, что «Дейч слишком погружен (что напрямую, думается, связано с практикой тайцзи в его жизни) в «умное делание», которое и философией или религией не назовешь, слишком уж оно скроено не по нашим меркам».
Впрочем, если уж искать классификаций (а совсем не искать их – нельзя, что же за понимание без классификаций?), - кое-какие, пожалуй, найдутся.
Прежде всего, мы здесь явно имеем дело с набирающим силу на наших глазах явлением русской «надкультурной», «межкультурной», может быть – «инокультурной» литературы: такой, у которой – русский языковой фундамент и, хотя бы уже вследствие этого, русская культурная память, но пишется она в других странах (в случае Дейча это – Израиль, где он живёт уже почти двадцать лет, с 1995 года) и потому – на основе иного опыта, под влиянием иных культурных обстоятельств, с проникновением в неё иных культурных памятей (при множественности культур слово «память», кажется, вполне напрашивается на употребление во множественном числе). Происходит наращивание русского литературного пространства за пределами русской культуры и российской жизни как таковой, - обретение русским словом и сознанием независимости от наших местных обстоятельств. Не знаю, приближает ли это русское слово к всечеловечности, - но думать так, по крайней мере, надеяться на это – соблазнительно.
Литературные опыты Дейча такую надежду дают: это, несомненно, - опыты всечеловечности, подступы к универсальности.
То есть, израильский опыт он тоже выговаривает. Об этом – большой текст «Зима в Тель-Авиве», состоящий из множества маленьких, как будто не соединённых между собою явными связями рассказов, но на самом деле перекликающихся просвечивающих друг сквозь друга и в конечном счёте образующих, как уже было справедливо замечено, цельное повествование, вполне достойное названия, скажем, романа. Разве что героем в нём стоит признать не кого бы то ни было из многочисленных населяющих текст персонажей (при том, что каждый – со своим узнаваемым лицом, - нет, всё равно), но город в целом, который говорит всеми их голосами и чувствует всеми их чувствами.
Но, во-первых, этот опыт выговорен именно по-русски, - на языке, на котором ни один из персонажей не говорит и не думает. Он, таким образом, – никуда не денешься, - прочувствован, притом именно изнутри, а не глазами чужака-туриста, - из русской культурной перспективы, что уже само по себе задаёт тексту общечеловеческое, транскультурное измерение.
Во-вторых, кажется, израильский опыт как таковой не слишком занимает Дейча. При всей своей величине «Зима в Тель-Авиве» занимает в сборнике «Прелюдии и фантазии» не так уж много места. Этот текст – не только своей чёткой культурной и географической локализацией, но и психологичностью - вообще кажется здесь скорее исключением, чем воплощением некоторого свойственного автору правила. «Мечты и молитвы» по всем приметам как будто принадлежат иудейской традиции – но здесь автор решительно покидает плоскость психологии и эмпирики и вступает в область притчи и мифа, для которых узкоэтническое и узкотрадиционное – не более, чем материал и инструмент. Остальные сюжеты Дейча либо так или иначе отсылают к иным традициям: китайской, мусульманской (в «Главах о прозрении истины» появляется хорошо знакомый Ходжа Насреддин и начинает, по своему обыкновению, вести себя парадоксально – правда, это совсем новая парадоксальность, заставляющая вспомнить скорее о Хармсе и обэриутах); в историях, связанных с Гриффитом, мелькнёт перед нашими глазами – уже в самом имени персонажа! - и культура американская, - либо обходятся без культурных координат вообще. Последнее, конечно, автоматически запускает в читательском воображении представление о «притче» - этот жанр словесности не раз упоминался в связи с Дейчем, - которая, как известно, ни в каких культурных координатах не нуждается, претендуя на то, чтобы повествовать об универсальном. Об архетипических, значит, структурах. Тот же Чанцев, проницательный, предлагает читать даже «пёстрые зарисовки» о зимнем Тель-Авиве с их отчётливыми координатами «именно как притчи, создающие новый миф, урбанистический и библейский одновременно».
Повествует ли об архетипических – устойчивых, в основе всего лежащих - структурах Дейч? Что-то мешает дать утвердительный ответ сразу.Предмет его внимания (не уверена, что исключительно, но во всяком случае – по преимуществу) - ускользающее, мимолётное, однократное, так и хочется сказать - исключительное. (Впрочем, не архетипична ли сама мимолётность и однократность? Тогда – Дейч из тех немногих, кто её в качестве таковой опознал и обозначил.)
Всё-таки очень хочется произнести тут слово «универсализация»: не затем ли и нужно энциклопедическое усвоение такого большого объёма литературных и внелитературных традиций, чтобы понять прозрачность, просвечиваемость каждой из них.
А на то, что через них просвечивает, - невозможно смотреть прямо. Поэтому Дейч разрабатывает систему уклончивых взглядов. Именно разрабатывает – и именно сложную систему, пусть лёгкость не вводит нас в заблуждение. Лёгкость нужна здесь лишь затем, чтобы не насиловать ни глаз смотрящего, ни видимый предмет, и тем самым не искажать картину. Но это – оптика.
Куда более характерным для мышления Дейча, чем подробная и чуткая «Зима в Тель-Авиве», кажется другой его большой текст. Он тоже составлен из многих маленьких, и части его опять-таки как будто не соединены ничем – кроме сквозного, общего им всем персонажа: «Пространство Гриффита». Человека, обозначенного одним-единственным (очень, впрочем, умышленным!) именем – и больше ничем – с которым случаются, который организует вокруг себя разные, мимолётные, не ложащиеся ни в какую обыденную логику ситуации.
Гриффит, кажется, – ключ к автору (если к нему вообще можно подобрать ключи. Но попытаемся). Это - персонаж мерцающий, прозрачный, бескачественный, персонаж-ситуация. «Мы о Гриффите, - цитирует сам Дейч одного своего понимающего критика, - почти ничего не знаем с определенностью, и на каком-то этапе эта неопределенность становится для нас дороже любого точного знания: только в ней и может удержаться образ Гриффита».
Определённость персонажу этого рода не нужна. Она ему даже противопоказана. Его назначение – соединять ситуации, образовывать их из (случайно подвернувшихся?) элементов. Нанизывать их на некую нитку, но опять же не навсегда, не фиксируя, а напротив того, будучи готовым её (их) в любой момент распустить. Здесь нет жёстких порядков – и все порядки возможны.
Андрей Сен-Сеньков, разговаривая с Дейчем в том числе и о Гриффите, спрашивает его, нет ли тут влияния Кортасара с его фамами и хронопами? Дейч отвечает – разумеется, есть, и «не только Кортасара. Здесь огромное количество прочитанной (и переваренной) литературы. С бору по сосенке. С каждой рубашки по нитке».
«Гриффит» - пусть его отрывочность не вводит в заблуждение - это в своём роде предприятие Большого Синтеза. (О, и не только «Гриффит».) Однако в этом определении, для понимания Дейча, следует отказаться от обертонов усилия (едва ли не титанического) и программы, а то и Проекта. Ни усилие, ни ему сопутствующее насилие, ни программа и проект как рациональные конструкты – не дейчевские действия и явления.
Так в чём же, наконец, смысл Большого Синтеза и «преимущество Дейча»? То, что оно есть, пришло в голову автору этих строк не только по аналогии с «Преимуществом Гриффита» (именно так называлась вышедшая несколько лет назад книга, в которой шестнадцать художников толковали загадочного дейчевского сквозного персонажа каждый на своём графическом языке). Хотя, конечно, и поэтому тоже: если уж мы хотим быть верными духу прозы, которую взялись разгадывать, к аналогиям стоит быть внимательными – как и ко всему тому, что улавливается боковым зрением и шестым чувством.
Мне вообще кажется, что проза Дейча написана во многом для бокового зрения и шестого чувства.
«Каждый сам себе Гриффит», заметила в своё время Елена Герчук. Сказала она это по вполне определённому поводу – о той самой книге шестнадцати иллюстраторов к одному тексту. Однако и сам автор, протеичный, многоликий – не своего ли рода Гриффит, объединяющий собой различные (текстовые, литературные, внелитературные) ситуации, всегда готовый из каждой из них выскользнуть? И никакая «жанровая идентификация» - точно, как определённость Гриффиту - ему не нужна.
Причина упорного его несогласия умещаться в культурную роль «писателя» (скажите ещё «властителя дум» и «инженера человеческих душ», ха-ха-ха), на мой взгляд, - в связанных с этим понятием (изготовитель, значит, законченных продуктов) интуициях определённости, законченности, остановки. «Писатель» - это программа.
«Я, - говорил Дейч Ольге Лукас, - ничего не «создаю», ни над чем не «работаю», письмо необходимо мне как некая практика себя, самоценная форма интроспекции: я пишу, чтобы писать». При этом «в моем случае нечто такое, что можно опубликовать, является побочным результатом и ни в коем случае не является «продуктом» моего «труда»«.
«Поймал (краем глаза!) летящее смазанное лицо – на плоскости витрины. Эй, там! – реакция прохожего, увидевшего себя в гигантском зеркале и застигнутого врасплох.
Запечатлённого».
Это – вся целиком главка «Мгновенные снимки» из «Зимы в Тель-Авиве». И если у непрограммного, неявно-программного Дейча могут быть обозначения собственной ну пусть не программы, но направления (а почему нет?), то – вот оно.
И ещё: «Один из важнейших для меня моментов – это необязательность, крайняя степень недидактичности». И там же: «Такая необязательность, неосведомленность, недидактичность достигается за счет максимальной освобожденности от всякого «жизненного опыта», от самого присутствия автора».
Что касается авторского присутствия, избавиться от него всё-таки трудно. И Дейч, думаю, несомненно присутствует во всех своих текстах, сколь бы ни была велика их уводящая во множество сторон разность, – присутствует в самой этой разности, в неопределимости, в неокончательности. В готовности обжить любую текстовую ситуацию – и без сожаления из неё выселиться, оставить её позади, как пустую ракушку (нет: как мгновенный снимок!), жить дальше.
И это – тоже позиция. И, безусловно, - форма опыта, - только очень мало освоенная.
Если писатель – тот, кто фиксирует мир, то Дейч, скорее, - его читатель. Или даже – улавливатель, по крайней мере – прослеживатель (ведь улавливатель хоть сколько-то удерживает пойманное, а Дейч даёт ему пройти своим ходом мимо. Нащупыватель. Созерцатель. Позиция, крайне нехарактерная (а не на первый ли взгляд?) для русской литературы с её традиционно сильной этической, даже «учительной» тенденцией, при которой «поэт в России больше, чем поэт». На самом-то деле, думаю, с этической тенденцией и здесь всё в порядке: за такой позицией стоит очень внятная этика. Причём такая, которую привычно ассоциировать скорее с восточными культурами: этика невмешательства в наблюдаемое, (неподдающегося) доверия ему, – всё равно, внешнему ли, внутреннему ли, - каким бы странным, не укладывающимся в привычки и автоматизмы оно ни казалось. Разве что, да, такая позиция и такая этика точно не «учительны». Дейч не учит, не наставляет, он показывает и, главное, – сам всматривается. Осторожно. Боковым зрением. Чтобы не повредить видимое.
И это – его «сквозное» отношение к миру и слову, о чём бы он ни писал, какую бы ни продолжал традицию.
А уже внутри этого всматривания можно и научиться чему-нибудь. Но – самостоятельно. В соответствии с собственным душевным устройством.
Если же говорить о жанрах, то почему не предположить, что автор изобретает – не слишком, правда, фиксируя на этом внимание – собственные жанры в соответствии с собственными текущими, летучими задачами? Предложу и названия для такого жанра: прикосновения. Не в жанре ли прикосновений (к своему возможному тексту; к воплощённой в нём реальности), в самом деле. написаны «24 сказки и истории», каждая – в своей музыкальной тональности? Все они представлены только своими заглавиями – или обозначениями своих тем:
«C-Dur
Сказка о слепой принцессе, прозревшей после поцелуя дракона
История о том, как человек затоптал мышь
c-Moll
Сказка о болотном попике, который некстати попал на язычок Пепперштейну
Трагическая история планеты Земля и её обитателей»
У Дейча ведь даже само название книги, итоговой за десять плодотворных лет - осторожное, касающееся. Прелюдии – это ведь не сама игра, ludus, а всего лишь подступы к ней. Присказка, а не сказка. Сказка – всегда впереди, и никогда не известно, какой она будет. Это можно только предчувствовать – и воображать (не оттого ли и вторая часть названия – «фантазии»?).
Он не скрывается. Не эзотеричен. Не говорит загадками. Скорее уж разгадками – загадки к которым надо ещё подобрать.
Дейч – открытый. Он – противоположность всяким законченностям, остановкам, раз-навсегда-поставленным точкам. Он готов быть очень разным. Скорее всего, он и сам не знает, каким будет на следующем шаге – и при этом доверчив, внимателен и восприимчив ко всем формам опыта, текста и чувства, которые с ним могут случиться.
И в этом – его несомненное преимущество.
Кураторы
Рецензии
Всего 112 сентября 2012 г. 13:58
240
5
Прочел за несколько дней, фактически не поднимая головы, не выглядывая наружу. Давненько не было у меня такого опыта. В смысле - сто лет книга не затягивала меня настолько, чтобы позабыть все дела, пока не перевернул последнюю страницу. И тут дело не в увлекательных сюжетах или каком-то стремительном повествовании - наоборот: медленное внимательное чтение. Когда листал книжку на БуФесте, удивила разностилица, разноголосица. Казалось странным, что все это написал один человек. Принес домой, открыл, и утонул.
Сейчас попробую объяснить в чем тут фишка. Вот я ищу кусочки, которые мне особенно понравились, чтобы процитировать, и вдруг понимаю, что почти любой фрагмент этой книги можно опубликовать в виде цитаты. Притом, каждая такая цитата будет выглядеть как отдельное, совершенное,…
Похожие книги
Вы можете посоветовать похожие книги по сюжету, жанру, стилю или настроению. Предложенные вами книги другие пользователи увидят здесь, в блоке «Похожие книги». Посоветовать книгу